специальный проект NotScribbler
По Руси:
Карелия
Карелия
Ваш небанальный гид по Петрозаводску, Шёлтозеро, Сяпсе, Медвежьегорску, Кондопоге и Сортавале, а также островам Кижи и Валаам.
Нажмите F11, чтобы погрузиться в историю.
Нажмите F11, чтобы погрузиться в историю.
Чистейшие озера с россыпью островов, бурные водопады, мраморные каньоны, массивные скалы – все это о Республике Карелия, природной сокровищнице Русского Севера.
В этой мультимедийной статье мы собрали для вас полезную информацию: куда сходить, что посмотреть, где поесть и как добраться до главных достопримечательностей. Для доступа к разделам очерка пользуйтесь интерактивным меню-оглавлением.
Что ж, в путь!
В этой мультимедийной статье мы собрали для вас полезную информацию: куда сходить, что посмотреть, где поесть и как добраться до главных достопримечательностей. Для доступа к разделам очерка пользуйтесь интерактивным меню-оглавлением.
Что ж, в путь!






Столица Карелии, город сталинской архитектуры, тенистых скверов и живописных панорам Онежского озера. Отправная точка нашего путешествия.
Город негласно считается хаски-столицей России. Приходите в питомник ездовых собак, чтоб посмотреть на милейших созданий, которые регулярно отправляются в экспедиции в Арктику.
История города тесно связана со строительством Беломорканала и урочищем Сандармох. Ну а если о позитивном, то на въезде в Медвежьегорск находится место, где снимали фильм «Любовь и голуби».
Сюда стоит приехать ради зоокомплекса «Три медведя», где в вольерах прямо в бору живут медведи, волки, леопарды, рыси, лани, совы, филины и другие животные Карелии.
Сортавала (Сердоболь) – музей финской архитектуры под открытым небом, красивый город с многовековой историей.
Моногород (большая часть населения занята на Кондопожском ЦБК), второй по численности населения город в Карелии. В 2006 году прославился массовыми беспорядками на почве межэтнической вражды.
Этнографический музей-заповедник, одна из визитных карточек Карелии. Деревянная застройка острова Кижи является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Музей-заповедник в северной части Ладожского озера на островах Валаамского архипелага.
Природа этих мест вдохновляла известных живописцев на творчество.
Природа этих мест вдохновляла известных живописцев на творчество.
Старинное вепсское село, которое известно с середины XVI века. Здесь находится единственный в мире Вепсский этнографический музей.
ОГЛАВЛЕНИЕ




В 2020 году Республика Карелия отмечает свой столетний юбилей. Однако судьба Карелии как исторической и территориальной единицы куда продолжительнее. Первые люди пришли на эти земли в VII–VI тысячелетиях до нашей эры после схода ледника. Богатые рыбой озера, дремучие леса, месторождения редкого камня – природные богатства влияли и на формирование особой культуры населявших Карелию народов. Об этом нам говорят петроглифы (IV-III тысячелетие до нашей эры) – наскальная живопись древних саамов.
С тех времен нерукотворная Карелия изменилась мало. Сегодня вы во всей полноте сможете насладиться красотой нетронутой природы: чистейшими озерами, мраморными каньонами, полноводными водопадами, живописными островами.
С тех времен нерукотворная Карелия изменилась мало. Сегодня вы во всей полноте сможете насладиться красотой нетронутой природы: чистейшими озерами, мраморными каньонами, полноводными водопадами, живописными островами.
добраться?
Рассказываем, какой вид транспорта лучше выбрать, если вы начинаете осмотр Карелии из Петрозаводска.
Как
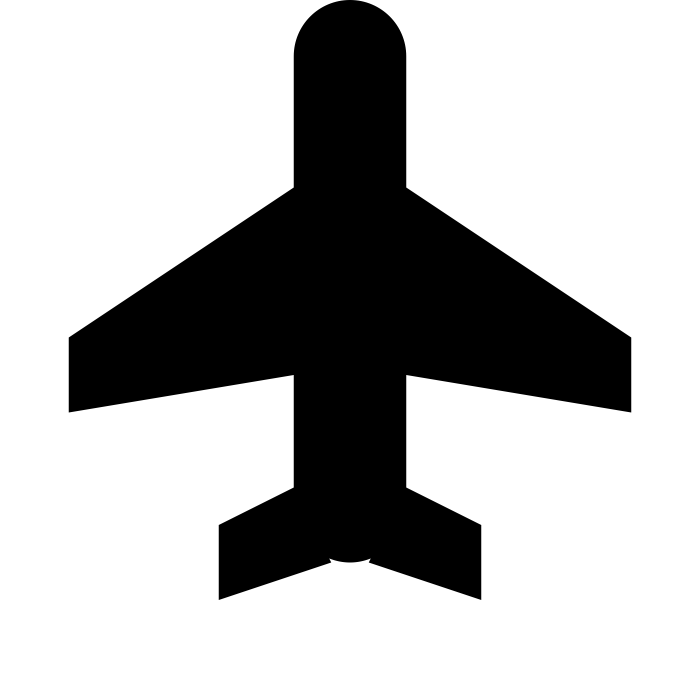

Удобный, быстрый и довольно дешевый способ добраться до Петрозаводска. Регулярные рейсы есть у компаний «Победа», «Северсталь» и S7 Airlines. Не забудьте о конкретных требованиях к багажу и ручной клади. Подробности узнавайте на официальных сайтах или в нашем подкасте.
Доехать до Петрозаводска на автомобиле вы можете по неплохим федеральным трассам. Из столицы поезжайте по трассам М10 и М11, затем сверните на Киришское шоссе и продолжайте путь по трассе Р21 (по ней же нужно ехать из Санкт-Петербурга, расстояние до Петрозаводска всего 412 км).
А еще обязательно послушайте наш подкаст о том, как наилучшим образом подготовиться к путешествию. Понравится – подписывайтесь, чтоб не пропустить новые выпуски.

Как
добраться?
А еще обязательно послушайте наш подкаст о том, как наилучшим образом подготовиться к путешествию. Понравится – подписывайтесь, чтоб не пропустить новые выпуски.
Рюкзак, такси, аэропорт – путешествие начинается по плану и пока мало чем отличается от предыдущих. Привычно-гармоничный порядок вещей нарушает одна деталь – медицинская маска. Тяжело дышать, подбородок и нос покрыт неприятной испариной.
Солнце жарит нещадно (а ведь еще пару часов назад погода была un temps de chien), я несу в руках теплую куртку с отстегивающейся подкладкой под овчину: ночи в Карелии холодные. Вхожу в здание аэропорта. Прохладный воздух приводит расплавленный от жары и недостатка свежего воздуха мозг в рабочее состояние. Леша чувствует себя, видимо, куда лучше: вышагивает пружинистым шагом, я чуть поспеваю. Фух!
Пандемия сорвала наши планы посмотреть Крым. Да и в эту поездку мы отправились с небольшими опасениями: что же будет, если заразимся там, в Петрозаводске? Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское: вооружаемся недельным запасом одноразовых масок и берем билет на самолет в один конец. Нет, не из-за веры в фатум. Просто не определились, когда назад.
Внуково – мой любимый аэропорт. Компактный и понятный, да еще почти в шаговой (ну почти) доступности от дома. Пока доедешь до какого-нибудь Шереметьево и Домодедово, устанешь сильнее, чем за время чекина, таможни и всего перелета вместе взятых.
До вылета еще остается время, мы заказываем кофе в пустующем Costa Coffee, чтобы не сидеть напротив беспардонно чихающих ковид-диссидентов. Ловлю себя на мысли, что люди совсем обмельчали, раз бунтуют против Системы подобным способом.
Орды народу без масок шествуют во всех направлениях, а я делаю глоток из бумажного стаканчика, спрятавшись от всех за тонкой стенкой кафетерия. Не для того три месяца страдала в четырех стенах, чтоб заразиться сейчас.
Кофе редкостная гадость. Горький и неароматный до такой степени, что язык хочется протереть наждачкой. Леша показывает мне мем с хипстером, который просит флэт уайт с кусочком белого сахара, а получает жижу столовского разлива.
«Ты знаешь, есть два сорта кофе: арабика и робуста. Я, конечно, не спец, но кажется, это именно робуста», – говорю я ему с серьезным видом. С этого момента у нас появляется традиция называть всякую несъедобную гадость (не только кофе) робустой.
Летим. Пожалуй, лучшее из всего спектра чувств, которые я испытала за последние месяцы. Мои проблемы и заботы остались там, на земле, утыканной многоэтажками подобно игольнице.
Пилот не обделен чувством юмора. Он предупреждает: «Ожидается слабая болталочка, так что держите ваши ремни пристегнутыми». Но пугать меня болталочкой – все равно что угрожать ежу голой... да, именно этим самым местом.
Только один раз мне было страшно лететь на самолете: трясло так, будто я ехала на машине с жесткой подвеской по бездорожью. Самое ужасное было смотреть на гнущиеся крылья воздушного судна. Лететь в металлической трубке, которая во власти стихии всего лишь игрушка, не самое приятное дело.
Когда обещанной болталочки не произошло, пилот объявил:
Солнце жарит нещадно (а ведь еще пару часов назад погода была un temps de chien), я несу в руках теплую куртку с отстегивающейся подкладкой под овчину: ночи в Карелии холодные. Вхожу в здание аэропорта. Прохладный воздух приводит расплавленный от жары и недостатка свежего воздуха мозг в рабочее состояние. Леша чувствует себя, видимо, куда лучше: вышагивает пружинистым шагом, я чуть поспеваю. Фух!
Пандемия сорвала наши планы посмотреть Крым. Да и в эту поездку мы отправились с небольшими опасениями: что же будет, если заразимся там, в Петрозаводске? Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское: вооружаемся недельным запасом одноразовых масок и берем билет на самолет в один конец. Нет, не из-за веры в фатум. Просто не определились, когда назад.
Внуково – мой любимый аэропорт. Компактный и понятный, да еще почти в шаговой (ну почти) доступности от дома. Пока доедешь до какого-нибудь Шереметьево и Домодедово, устанешь сильнее, чем за время чекина, таможни и всего перелета вместе взятых.
До вылета еще остается время, мы заказываем кофе в пустующем Costa Coffee, чтобы не сидеть напротив беспардонно чихающих ковид-диссидентов. Ловлю себя на мысли, что люди совсем обмельчали, раз бунтуют против Системы подобным способом.
Орды народу без масок шествуют во всех направлениях, а я делаю глоток из бумажного стаканчика, спрятавшись от всех за тонкой стенкой кафетерия. Не для того три месяца страдала в четырех стенах, чтоб заразиться сейчас.
Кофе редкостная гадость. Горький и неароматный до такой степени, что язык хочется протереть наждачкой. Леша показывает мне мем с хипстером, который просит флэт уайт с кусочком белого сахара, а получает жижу столовского разлива.
«Ты знаешь, есть два сорта кофе: арабика и робуста. Я, конечно, не спец, но кажется, это именно робуста», – говорю я ему с серьезным видом. С этого момента у нас появляется традиция называть всякую несъедобную гадость (не только кофе) робустой.
Летим. Пожалуй, лучшее из всего спектра чувств, которые я испытала за последние месяцы. Мои проблемы и заботы остались там, на земле, утыканной многоэтажками подобно игольнице.
Пилот не обделен чувством юмора. Он предупреждает: «Ожидается слабая болталочка, так что держите ваши ремни пристегнутыми». Но пугать меня болталочкой – все равно что угрожать ежу голой... да, именно этим самым местом.
Только один раз мне было страшно лететь на самолете: трясло так, будто я ехала на машине с жесткой подвеской по бездорожью. Самое ужасное было смотреть на гнущиеся крылья воздушного судна. Лететь в металлической трубке, которая во власти стихии всего лишь игрушка, не самое приятное дело.
Когда обещанной болталочки не произошло, пилот объявил:
«Мы старательно облетели все грозы и уверенно летим на Петрозаводск. Ветер попутный»
Петрозаводский аэропорт крохотный, а сервис там никакущий. На выход нужно идти прямо по взлетной полосе (спасибо за новые ощущения!) и проходить через проделанные в ограде ворота. Там девушка в костюме космонавта просит показывать запястье, чтобы направить в пульсирующую вену глаз термометра. После протяжного «пииип» можно идти куда душе угодно. Моей подзачахшей за время самоизоляции душе было угодно очутиться в такси. Сделать это оказалось не так просто.
Возле нового, еще не открытого терминала, обнесенного красно-белой целлофановой лентой, стоят бомбилы. Судя по окраске машин, они работают с агрегаторами, но желание заработать ставят выше. Борзо требуют косарь и даже полтора за 18 км (читай: 20 минут) поездки. Интересно, когда рейс не из Москвы, прайс снижается?
Мое доверие и лояльность к «Яндекс.Такси» рухнули, как курс доллара в далеком 2008. А все из-за того, что пришлось четыре раза вызывать машину и четыре раза получать отказ: «Свободных такси нет, ожидайте». Местный извозчик обещал машину через 35-60 минут. Серьезно? Мне казалось, аэропорты и вокзалы лучшие «кормушки» для таксистов.
В итоге от аэропорта до вокзала мы ехали на такси «Максим». Кстати, цены ниже, чем у «Яндекс.Такси», и вызвать машину в аэропорт не составляет труда.
Возле нового, еще не открытого терминала, обнесенного красно-белой целлофановой лентой, стоят бомбилы. Судя по окраске машин, они работают с агрегаторами, но желание заработать ставят выше. Борзо требуют косарь и даже полтора за 18 км (читай: 20 минут) поездки. Интересно, когда рейс не из Москвы, прайс снижается?
Мое доверие и лояльность к «Яндекс.Такси» рухнули, как курс доллара в далеком 2008. А все из-за того, что пришлось четыре раза вызывать машину и четыре раза получать отказ: «Свободных такси нет, ожидайте». Местный извозчик обещал машину через 35-60 минут. Серьезно? Мне казалось, аэропорты и вокзалы лучшие «кормушки» для таксистов.
В итоге от аэропорта до вокзала мы ехали на такси «Максим». Кстати, цены ниже, чем у «Яндекс.Такси», и вызвать машину в аэропорт не составляет труда.
Прежде чем я продолжу свое повествование, позвольте посоветовать вам несколько интересных книг по теме. Уверена, вы вспомните меня добрым словом, когда будете чахнуть в ожидании такси, автобуса, да и просто во время перелета.
почитать о Карелии?
Эти книги помогут вам погрузиться в исторический и культурный контекст, а также гармонично дополнят вашу поездку.
Что
Здесь рассказывается об истории открытия и изучения древних наскальных изображений Северной Европы – петроглифов. Познавательные описания сопровождают многочисленные картинки. Рекомендуем!
История нашего края: Учебное пособие для школ Карельской АССР // К.А. Морозов,
Е.М. Эпштейн. Петрозаводск, 1966.
Е.М. Эпштейн. Петрозаводск, 1966.


Да, это учебник истории. Отлично подойдет для тех, кто решил основательно подготовиться к путешествию. Книга написана простым слогом, но стоит делать скидку на трактовку с советских позиций.

Лобанова Н.В. Петроглифы Онежского озера. М., 2014.
Чтобы проникнуться духом аутентичной Карелии, почитайте «Калевалу», основу которой составляют карельские народные эпические песни. Кстати, финский литературный язык формировался на основе карельского. В этом состоит большая заслуга Элиаса Леннрота, записавшего песни «Калевалы».

почитать о Карелии?
Что
Петрозаводск
Петрозаводск – столица Карелии, ее крупнейший город, который находится на берегу Петрозаводской губы – залива Онежского озера. Здесь проживает почти половина населения республики (около 280 000 человек).
Город (тогда он назывался Петровской слободой) был основан Петром I в 1703 году. В это время Россия вела войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. Как нельзя кстати во время научной экспедиции выяснилось, что на берегах Онежского озера есть залежи меди и железа.
Здесь открылся оружейный завод, где производили ядра и пушки. Это было на руку царю, поскольку Уральские заводы находились далеко от театра военных действий.
После окончания Северной войны завод начал приходить в упадок: потребность в большом количестве пушек отпала. В 1734 году завод закрыли, но к 1750-м годам предприятие вернулось в работу. Здесь выплавлялась медь, которая затем шла в Санкт-Петербург на чеканку монет.
В 1760-х годах Екатерина II издала указ о возобновлении производства пушек: началась русско-турецкая война (1768-1774). Население Петровской слободы росло, и в 1777 году город получил официальное название Петрозаводск.
Интересно, что здесь впервые в истории России построили железную дорогу (пусть она и была всего 160 метров). Город развивался вместе со своим главным предприятием.
Петрозаводск сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 годы он был оккупирован финскими войсками, на территории города действовали семь концлагерей. В ходе Свирско-Петрозаводской операции финны оставили Петрозаводск, однако взорвали все важные объекты хозяйства и превратили город в минное поле.
Город (тогда он назывался Петровской слободой) был основан Петром I в 1703 году. В это время Россия вела войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. Как нельзя кстати во время научной экспедиции выяснилось, что на берегах Онежского озера есть залежи меди и железа.
Здесь открылся оружейный завод, где производили ядра и пушки. Это было на руку царю, поскольку Уральские заводы находились далеко от театра военных действий.
После окончания Северной войны завод начал приходить в упадок: потребность в большом количестве пушек отпала. В 1734 году завод закрыли, но к 1750-м годам предприятие вернулось в работу. Здесь выплавлялась медь, которая затем шла в Санкт-Петербург на чеканку монет.
В 1760-х годах Екатерина II издала указ о возобновлении производства пушек: началась русско-турецкая война (1768-1774). Население Петровской слободы росло, и в 1777 году город получил официальное название Петрозаводск.
Интересно, что здесь впервые в истории России построили железную дорогу (пусть она и была всего 160 метров). Город развивался вместе со своим главным предприятием.
Петрозаводск сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 годы он был оккупирован финскими войсками, на территории города действовали семь концлагерей. В ходе Свирско-Петрозаводской операции финны оставили Петрозаводск, однако взорвали все важные объекты хозяйства и превратили город в минное поле.
Белорусская Карелия
Для общественно-политического портала «Друзья-Сябры» мы подготовили материал о выходцах из Беларуси, связанных с историей карельского края: Иване Солоневиче, Сергее Коненкове, Борисе Пигаревиче, Терентии Штыкове и архиепископе Венедикте (Григоровиче).

Белорусская Карелия
Что




Такси распахивает свои желтые двери напротив здания железнодорожного вокзала. Я выгружаю свое тело, осматриваюсь и думаю: «Неплохо». И первое впечатление меня не подводит.
Справа красуется здание вокзала 1950-х годов в стиле позднего неоклассицизма с семнадцатиметровым шпилем. Напоминает один из павильонов ВДНХ в Москве.
Слева закругленные сталинки выстраивают красивую перспективу на главную улицу Петрозаводска – проспект Ленина. Именно по нему нам с Лешей предстоит идти. Прямо и прямо, пока преградой не станут волны Онежского озера.
Синтетическая овчинка греет руку: того и гляди кровь закипит. Проклинаю ее, поправляю рюкзак, меняю маску. Идем по проспекту и видим: огромный птенец чайки ходит по строительному мусору возле дома, закрытого лесами. Летать еще не умеет, неловко перебирает перепончатыми лапками, чтоб уйти подальше от людей. Беднягу было жалко безмерно, но я не знала, как ему помочь.
Тут Леша напомнил, как я страдала в Питере по голубю, на которого напала здоровенная чайка (тогда я чуть не ринулась защищать сизокрылого, даже не задумываясь над тем, что у такой чайки клюв размером с мой указательный и средний пальцы вместе взятые). Но сейчас был другой случай. Это же беззащитный птенец, а не взрослая чайка-убийца.
Справа красуется здание вокзала 1950-х годов в стиле позднего неоклассицизма с семнадцатиметровым шпилем. Напоминает один из павильонов ВДНХ в Москве.
Слева закругленные сталинки выстраивают красивую перспективу на главную улицу Петрозаводска – проспект Ленина. Именно по нему нам с Лешей предстоит идти. Прямо и прямо, пока преградой не станут волны Онежского озера.
Синтетическая овчинка греет руку: того и гляди кровь закипит. Проклинаю ее, поправляю рюкзак, меняю маску. Идем по проспекту и видим: огромный птенец чайки ходит по строительному мусору возле дома, закрытого лесами. Летать еще не умеет, неловко перебирает перепончатыми лапками, чтоб уйти подальше от людей. Беднягу было жалко безмерно, но я не знала, как ему помочь.
Тут Леша напомнил, как я страдала в Питере по голубю, на которого напала здоровенная чайка (тогда я чуть не ринулась защищать сизокрылого, даже не задумываясь над тем, что у такой чайки клюв размером с мой указательный и средний пальцы вместе взятые). Но сейчас был другой случай. Это же беззащитный птенец, а не взрослая чайка-убийца.
Город красив: фасады сталинок и широкая лента дороги, раскинувшаяся до синей полосы на горизонте – вод Онежского озера. Огорчает только, что люди без масок. Не берегут ни себя, ни окружающих.
Проходим здание университета, затем какой-то учебный корпус, на дверях которого горделиво красуется табличка «IT-парк». Второй раз за день я мысленно произношу слово «неплохо».
Затем глаз цепляется за здание советского кинотеатра. Навевает тоску: поганцы-капиталисты изуродовали фасад громадной вывеской фастфуда. Глобализация не щадит никого.
Слева от гостиницы «Северная» – местной достопримечательности – эффектные деревянные дома. Два этажа, большие окна – жить здесь, вероятно, вполне неплохо, если не скрипят половицы и не выползают на ночную тусовку местные жучки. С последними у меня еще будет отдельная история.
Проходим здание университета, затем какой-то учебный корпус, на дверях которого горделиво красуется табличка «IT-парк». Второй раз за день я мысленно произношу слово «неплохо».
Затем глаз цепляется за здание советского кинотеатра. Навевает тоску: поганцы-капиталисты изуродовали фасад громадной вывеской фастфуда. Глобализация не щадит никого.
Слева от гостиницы «Северная» – местной достопримечательности – эффектные деревянные дома. Два этажа, большие окна – жить здесь, вероятно, вполне неплохо, если не скрипят половицы и не выползают на ночную тусовку местные жучки. С последними у меня еще будет отдельная история.
 |  |  |  |
Стоим у кромки воды величественного озера. Пресная вода – одно из природных богатств Карелии. Онежское озеро является вторым по площади озером Европы. На первом месте – Ладожское озеро (на нем я тоже была и не раз). Удивительно, что топ десять озер находятся на территории России, Финляндии и Швеции.
Набережная широкая, вполне себе симпатичная (если закрыть глаза на какую-то стройку) и удобная для прогулок. Ее популярность подтверждает факт, что в этот теплый июльский воскресный вечер на променад у воды вышел весь Петрозаводск.
А вот и дерево желаний с ухом посреди ствола. Эту скульптуру в полную величину шведский город Умео вручил Петрозаводску в знак дружбы. Выглядит странно и не то чтобы очень эстетично. Однако у меня есть свой резон подойти огромному гипсовому уху: хочу сформулировать ему свою мечту. А вдруг сработает?
Набережная широкая, вполне себе симпатичная (если закрыть глаза на какую-то стройку) и удобная для прогулок. Ее популярность подтверждает факт, что в этот теплый июльский воскресный вечер на променад у воды вышел весь Петрозаводск.
А вот и дерево желаний с ухом посреди ствола. Эту скульптуру в полную величину шведский город Умео вручил Петрозаводску в знак дружбы. Выглядит странно и не то чтобы очень эстетично. Однако у меня есть свой резон подойти огромному гипсовому уху: хочу сформулировать ему свою мечту. А вдруг сработает?
Табличка гласит, что дерево берется исполнить только одно желание. Думаю, я не нарушила правило, нашептывая волшебному древу одно соображение о безмятежном будущем всякий раз, когда проходила мимо. Ну чтоб наверняка.
Вдоволь нагулявшись по набережной, мы вышли на проспект Карла Маркса. Собрались заселяться в одну из сталинок на улице Гоголя. Хоть выбор был невелик (все гостиницы, хостелы, квартиры, палаточные городки – вообще ВСЕ было забронировано чуть ли не на месяц вперед), это вариант размещения казался вполне солидным.
На пути возникает музыкальный театр Республики Карелия со скульптурами руки моего соотечественника (то есть белоруса), скульптора Сергея Коненкова. Еще при жизни мастера называли русским Роденом. Творчество Коненкова было высоко оценено и при царе, и при большевиках: скульптор заслужил звания академика Императорской академии художеств, Народного художника СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Сталинской премий.
Прохожу и мимо полуубитого здания Дома культуры 1958 года. Какая беспечность: объект культурного наследия находится в частных руках, работает как выставочный центр и постепенно приходит в негодность.
Петрозаводск – приятный зеленый город, который сохраняет свой архитектурный облик, дух минувшей эпохи. Нет хрущевской застройки (по крайней мере в центре) – и сердце этому радуется.
На пути возникает музыкальный театр Республики Карелия со скульптурами руки моего соотечественника (то есть белоруса), скульптора Сергея Коненкова. Еще при жизни мастера называли русским Роденом. Творчество Коненкова было высоко оценено и при царе, и при большевиках: скульптор заслужил звания академика Императорской академии художеств, Народного художника СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Сталинской премий.
Прохожу и мимо полуубитого здания Дома культуры 1958 года. Какая беспечность: объект культурного наследия находится в частных руках, работает как выставочный центр и постепенно приходит в негодность.
Петрозаводск – приятный зеленый город, который сохраняет свой архитектурный облик, дух минувшей эпохи. Нет хрущевской застройки (по крайней мере в центре) – и сердце этому радуется.
Часы показывают, что дело близится к вечеру. Судя по тому, как светло на улице, так и не скажешь. Вижу дом, где мне предстоит ночевать всю неделю. Он весь в лесах. Обходим его. К подъездам ведут деревянные подмостки, двор же выглядит так, будто там поработали гигантские кроты. В первом подъезде открыт кожвендиспансер. «Что-то мне здесь не нравится», – почему-то шепотом говорю Леше, пока тот набирает номер хозяйки.
Вообще мы планировали заселиться раньше, сразу после прилета: сбросить тяжелый рюкзак со спины, согнутой в знак вопроса, чтобы налегке гулять по городу. Владелица апартаментов оказалась непробиваемо-настойчивой, приглашая нас к заселению после семи вечера. Сказала, что у нее строители что-то ремонтируют в коридоре и туалете, из-за чего нам будет некомфортно. Этот звоночек меня насторожил, но других вариантов не было.
Леша положил трубку. «Ну что?» – спросила я. «Сказала ожидать, сейчас спустится». Через какое-то время молодая женщина распахнула дверь подъезда, приглашая нас пройти внутрь. Подъезд был маленьким, темным и узким. Мы поднялись на второй этаж, женщина открыла ключом металлическую дверь и попросила: «Оставьте на входе обувь, здесь чисто».
Комната была крошечной, прямо под описание апартаментов Раскольникова. Чистотой здесь и не пахло. Ламинат в комнате был присыпан крошками и пылью. Я ожидала закоса под Эуропу, поэтому не удивилась черно-белым фотографиям Эйфелевой башни на стене и фарфоровым фигуркам котиков на угловой полочке. Мелькнула мысль, что вместо котиков сюда можно было бы положить рюкзак – на пол его ставить не хотелось, а стул был всего один.
«Мило, не правда ли?» – спросила хозяйка, расценивая мое внимание к котикам как восторг. Я сделала неопределенный жест головой и спросила: «А у вас тут нет клопов, тараканов?» Мадам оскорбилась и заверила, что живых больше нет, всех перетравили. Леша попытался смягчить обстановку: «Вы извините, мы просто когда в Польше были в хостеле, там одного парня так искусали клопы, что на нем места живого не было. Вот мы теперь и проверяем». Женщина снова заверила нас в безупречной чистоте и ушла.
Дальше началась комедия в двух действиях. В первом акте я поставила телефон на зарядку, в то время как Леша резко ударил себя рукой по предплечью.
– По мне кто-то ползал. Вот, вот он упал.
Я подхожу ближе, смотрю на пол. Действительно, на полу лежит маленький коричневый труп. Интересно!
– Мошка какая-то, ничего страшного. Тут же дерево за окном. Бывает.
– Нет, он не похож на мошку. Это точно не клоп? Ты точно все хорошо посмотрела?
– Клопы не так выглядят. Успокойся, это мошка, – неубедительно заверила я Лешу, хоть уже поняла, что труп на мошку не похож, что у него броня как у жука.
– Фотографируй этого урода, отправим его хозяйке.
Пока я фотографировала неподвижное насекомое, Леша нагуглил, что это жуки-кожееды, которые питаются не только ламинатом, мебелью, книгами, но и, как гласит их название, кожей. А еще эти красавцы переносят на своем теле яйца глистов.
– Смотри, там еще точка на потолке, – воскликнул Леша.
Я полезла под потолок. Включила на телефоне вспышку-фонарик. И правда, в хаотичном порядке по стенам и светлому потолку ползали сородичи убиенного жука.
– Их не так уж и много, куда мы пойдем? Уже полдесятого, – сказала я.
– Придумаем. Ладно, если будут только кусаться, но они же начнут ходить по всему телу, да еще чего доброго залезут в нос! – ужаснулся Леша.
Я хотела сказать, что он этого не почувствует, но сдержалась. Было решено не сдаваться на милость коварного врага. Мы ушли в ночь (белую, как и в Питере), услышав от оставшейся без заработка мадам что-то вроде «ну, а что вы хотели, все так живут, это же Карелия!»
Вообще мы планировали заселиться раньше, сразу после прилета: сбросить тяжелый рюкзак со спины, согнутой в знак вопроса, чтобы налегке гулять по городу. Владелица апартаментов оказалась непробиваемо-настойчивой, приглашая нас к заселению после семи вечера. Сказала, что у нее строители что-то ремонтируют в коридоре и туалете, из-за чего нам будет некомфортно. Этот звоночек меня насторожил, но других вариантов не было.
Леша положил трубку. «Ну что?» – спросила я. «Сказала ожидать, сейчас спустится». Через какое-то время молодая женщина распахнула дверь подъезда, приглашая нас пройти внутрь. Подъезд был маленьким, темным и узким. Мы поднялись на второй этаж, женщина открыла ключом металлическую дверь и попросила: «Оставьте на входе обувь, здесь чисто».
Комната была крошечной, прямо под описание апартаментов Раскольникова. Чистотой здесь и не пахло. Ламинат в комнате был присыпан крошками и пылью. Я ожидала закоса под Эуропу, поэтому не удивилась черно-белым фотографиям Эйфелевой башни на стене и фарфоровым фигуркам котиков на угловой полочке. Мелькнула мысль, что вместо котиков сюда можно было бы положить рюкзак – на пол его ставить не хотелось, а стул был всего один.
«Мило, не правда ли?» – спросила хозяйка, расценивая мое внимание к котикам как восторг. Я сделала неопределенный жест головой и спросила: «А у вас тут нет клопов, тараканов?» Мадам оскорбилась и заверила, что живых больше нет, всех перетравили. Леша попытался смягчить обстановку: «Вы извините, мы просто когда в Польше были в хостеле, там одного парня так искусали клопы, что на нем места живого не было. Вот мы теперь и проверяем». Женщина снова заверила нас в безупречной чистоте и ушла.
Дальше началась комедия в двух действиях. В первом акте я поставила телефон на зарядку, в то время как Леша резко ударил себя рукой по предплечью.
– По мне кто-то ползал. Вот, вот он упал.
Я подхожу ближе, смотрю на пол. Действительно, на полу лежит маленький коричневый труп. Интересно!
– Мошка какая-то, ничего страшного. Тут же дерево за окном. Бывает.
– Нет, он не похож на мошку. Это точно не клоп? Ты точно все хорошо посмотрела?
– Клопы не так выглядят. Успокойся, это мошка, – неубедительно заверила я Лешу, хоть уже поняла, что труп на мошку не похож, что у него броня как у жука.
– Фотографируй этого урода, отправим его хозяйке.
Пока я фотографировала неподвижное насекомое, Леша нагуглил, что это жуки-кожееды, которые питаются не только ламинатом, мебелью, книгами, но и, как гласит их название, кожей. А еще эти красавцы переносят на своем теле яйца глистов.
– Смотри, там еще точка на потолке, – воскликнул Леша.
Я полезла под потолок. Включила на телефоне вспышку-фонарик. И правда, в хаотичном порядке по стенам и светлому потолку ползали сородичи убиенного жука.
– Их не так уж и много, куда мы пойдем? Уже полдесятого, – сказала я.
– Придумаем. Ладно, если будут только кусаться, но они же начнут ходить по всему телу, да еще чего доброго залезут в нос! – ужаснулся Леша.
Я хотела сказать, что он этого не почувствует, но сдержалась. Было решено не сдаваться на милость коварного врага. Мы ушли в ночь (белую, как и в Питере), услышав от оставшейся без заработка мадам что-то вроде «ну, а что вы хотели, все так живут, это же Карелия!»
Нам повезло. В двух километрах от злополучного дома находилась гостиница «Лососинская» (по названию шумной, мощной речушки). Номер всего на две ночи, дальше все занято. Но уж лучше так, чем с жуками.
Чтоб вы представили обстановочку, вообразите трассу, гаражи, деревянные двухэтажные бараки, поликлинику при онкологической больнице. Короче говоря, место, о котором не знает даже доставка пиццы. Получилось? Среди всей этой красоты стояло нежно-желтое деревянное здание «Лососинской».
Пластиковые панели на стенах и на потолке. Сами с желтизной, да еще освещены премерзко. Вздувшийся линолеум для приличия закрыт полинявшей красной ковровой дорожкой. Дородная женщина на ресепшене требует миграционную карту, которая белорусам не нужна.
Что бы подумала моя клиентка-блогер, для которой я делала фотосессии в образах от диоров и шанелей, окажись она здесь? Я представила и усмехнулась.
Номер мы проверяли где-то полчаса, выискивая жуков и тараканов. Обнаружили только плесень на одной стене. Хрен с ней, с плесенью. Она хоть «сидит» на одном месте, не угрожает укусами и не переносит гельминтов.
Через час приезжает доставка пиццы. Мы как следует ужинаем, и мир больше не кажется враждебным. А плесень не так уж и портит интерьер. Есть же дизайнерские решения вроде абстрактных пятен? Вот, тут оно природное. Натюрэль. Вскоре я погружаюсь в сон под мысли о том, что отпуск проходит в целом как надо.
Чтоб вы представили обстановочку, вообразите трассу, гаражи, деревянные двухэтажные бараки, поликлинику при онкологической больнице. Короче говоря, место, о котором не знает даже доставка пиццы. Получилось? Среди всей этой красоты стояло нежно-желтое деревянное здание «Лососинской».
Пластиковые панели на стенах и на потолке. Сами с желтизной, да еще освещены премерзко. Вздувшийся линолеум для приличия закрыт полинявшей красной ковровой дорожкой. Дородная женщина на ресепшене требует миграционную карту, которая белорусам не нужна.
Что бы подумала моя клиентка-блогер, для которой я делала фотосессии в образах от диоров и шанелей, окажись она здесь? Я представила и усмехнулась.
Номер мы проверяли где-то полчаса, выискивая жуков и тараканов. Обнаружили только плесень на одной стене. Хрен с ней, с плесенью. Она хоть «сидит» на одном месте, не угрожает укусами и не переносит гельминтов.
Через час приезжает доставка пиццы. Мы как следует ужинаем, и мир больше не кажется враждебным. А плесень не так уж и портит интерьер. Есть же дизайнерские решения вроде абстрактных пятен? Вот, тут оно природное. Натюрэль. Вскоре я погружаюсь в сон под мысли о том, что отпуск проходит в целом как надо.
Гид по Петрозаводску
⬥ Парк 50-летия пионерской организации – очень приятное место для прогулок. Понравились, как река Неглинка оформлена дугообразными мостиками. Романтично!
⬥ Здание бывшего кинотеатра «Победа» (пр. Ленина, 27) – сейчас там находится фастфуд KFC, но здание в стиле классицизм от этого не пострадало.
⬥ Архитектурный ансамбль Въезжей площади – эффектный архитектурный ансамбль из деревянных зданий (1917 год постройки, чудом уцелели после войны) и гостиницы «Северная» (1930 год постройки; сильно пострадала в годы войны). В XVIII веке здесь проходила граница поселения Петровская слобода.
⬥ Здание Почтамта (ул. Дзержинского, 5) – красивое здание в стиле неоренессанс 1940-х годов с трехъярусной башенкой, шпилем и курантами.
⬥ Здание бывшего кинотеатра «Победа» (пр. Ленина, 27) – сейчас там находится фастфуд KFC, но здание в стиле классицизм от этого не пострадало.
⬥ Архитектурный ансамбль Въезжей площади – эффектный архитектурный ансамбль из деревянных зданий (1917 год постройки, чудом уцелели после войны) и гостиницы «Северная» (1930 год постройки; сильно пострадала в годы войны). В XVIII веке здесь проходила граница поселения Петровская слобода.
⬥ Здание Почтамта (ул. Дзержинского, 5) – красивое здание в стиле неоренессанс 1940-х годов с трехъярусной башенкой, шпилем и курантами.
Проспект Ленина
Квартал исторической застройки
Вдоль улицы Федосовой начитается район Слободка, известный застройкой рубежа XIX-ХХ веков. Для тех, у кого по каким-то причинам не получится посетить остров Кижи, есть альтернатива: лекционно-выставочный комплекс музея-заповедника Кижи (Федосовой, 19).
Онежская набережная
Визитная карточка Петрозаводска. Открылась в 1994 году в честь освобождения города от фашистов. Обратить внимание стоит на скульптуру «Рыбаки» (подарок городу от США), на «Дерево желаний» (дар Швеции), на гранитный «Кошелек удачи» (дар Риги).
⬥ За причалом находится живописный Петровский парк с памятником основателю города. Кстати, петрозаводский памятник Петру I наряду со знаменитым петербургским «Медным всадником» считается одним из лучших памятников императору в России.
⬥ Ресторан «Фрегат» отлично подходит для пафосных фоточек и гедонистичных вечеров карельской кухни.
⬥ За причалом находится живописный Петровский парк с памятником основателю города. Кстати, петрозаводский памятник Петру I наряду со знаменитым петербургским «Медным всадником» считается одним из лучших памятников императору в России.
⬥ Ресторан «Фрегат» отлично подходит для пафосных фоточек и гедонистичных вечеров карельской кухни.
Площадь С.М. Кирова
Главная и самая большая площадь Петрозаводска. Изначально называлась Крепостной, так как после основания Петровской слободы за ней проходил крепостной вал. Потом носила название Соборной: здесь находился красивейший ансамбль церквей во главе с кафедральным Святодуховским собором архитектора Константина Тона.
⬥ Музыкальный театр со скульптурами Сергея Коненкова на фронтоне. Эффектное здание, созданное по образцу Большого и Александринского театров, стоит на месте снесенного в 1936 году Святодуховского собора.
⬥ Памятник С.М. Кирову архитектора Матвея Манизера.
⬥ Музей изобразительных искусств известен богатой коллекцией иконописи северных земель, в том числе старообрядческой.
⬥ Музыкальный театр со скульптурами Сергея Коненкова на фронтоне. Эффектное здание, созданное по образцу Большого и Александринского театров, стоит на месте снесенного в 1936 году Святодуховского собора.
⬥ Памятник С.М. Кирову архитектора Матвея Манизера.
⬥ Музей изобразительных искусств известен богатой коллекцией иконописи северных земель, в том числе старообрядческой.
Проспект Карла Маркса
⬥ Для любителей театральной жизни здесь есть Национальный театр и Театр кукол. Оба здания построены в 1930-х годах.
⬥ Кафе «Яблочное» отлично подходит, чтобы недорого пообедать. Если будете брать на вынос, сделают скидку 50%.
⬥ Парк Онежского тракторного завода, или «Ямка» – ооочень живописный сквер с бурной речушкой. Обязательно загляните в интерактивную бесплатную Галерею промышленной истории. Звучит скучно, но на деле это один из наиболее крутых музеев Петрозаводска. Экспонаты можно трогать руками и вспоминать школьные уроки физики. В сквере перед входом в музей выставлены рельсы первой в России заводской железной дороги (XVIII век).
⬥ Кафе «Яблочное» отлично подходит, чтобы недорого пообедать. Если будете брать на вынос, сделают скидку 50%.
⬥ Парк Онежского тракторного завода, или «Ямка» – ооочень живописный сквер с бурной речушкой. Обязательно загляните в интерактивную бесплатную Галерею промышленной истории. Звучит скучно, но на деле это один из наиболее крутых музеев Петрозаводска. Экспонаты можно трогать руками и вспоминать школьные уроки физики. В сквере перед входом в музей выставлены рельсы первой в России заводской железной дороги (XVIII век).
Площадь Ленина (Круглая)
Памятник истории и архитектуры в стиле позднего классицизма конца XVIII века, эта площадь бесспорно является одной из наиболее красивых в Петрозаводске. В ее центре стоял памятник Петру I. Во время революции 1917 года его заменили на памятник Ленину, который стоит по сей день (архитектор Матвей Манизер). Это самый крупный памятник Карелии.
⬥ Национальный музей Карелии демонстрирует посетителям неплохую экспозицию об истории края с древнейших времен. Жаль, ХХ век не представлен.
⬥ Дом начальника Олонецкого горного округа построен шотландцем Чарльзом Гаскойном в конце XVIII века.
⬥ Памятник Гавриле Державину – великому поэту и первому губернатору края.
⬥ Мемориальный комплекс в честь воинов Карельского фронта, партизан и подпольщиков Карелии (о нем смотрите в блоке «Белорусская Карелия»).
⬥ Национальный музей Карелии демонстрирует посетителям неплохую экспозицию об истории края с древнейших времен. Жаль, ХХ век не представлен.
⬥ Дом начальника Олонецкого горного округа построен шотландцем Чарльзом Гаскойном в конце XVIII века.
⬥ Памятник Гавриле Державину – великому поэту и первому губернатору края.
⬥ Мемориальный комплекс в честь воинов Карельского фронта, партизан и подпольщиков Карелии (о нем смотрите в блоке «Белорусская Карелия»).
Гид по Петрозаводску
 |  |  |  |
Карельская кухня в Петрозаводске
Карельскую кухню я пробовала в ресторане «Фрегат» на берегу Онежского озера. Блюда брали рыбные (суп лохикейто с лососем на сливках и треску по-таежному). Рыба составляет основу карельской национальной кухни. Неудивительно, ведь по количеству озер на тысячу квадратных километров Карелия находится на первом месте в мире.
Признаюсь, меня удивило сочетание трески с шампиньонами. Раньше казалось, что грибы больше подходят к мясу. Лимон и брусника к рыбе - конечно, беспроигрышный вариант, придают пикантности и отбивают характерный запах.
Когда выбирала суп, думала, что это будет что-то вроде молочного супа с ломтиками лосося. Была приятно удивлена: сливки отлично дополнили жирную рыбу. Нежный и необычный вкус. Думаю, лохикейто понравится тем, кто не очень любит рыбу. Вердикт: вкусно!
Калитки и другую свежую выпечку рекомендую брать в пекарне «Беккер».
Признаюсь, меня удивило сочетание трески с шампиньонами. Раньше казалось, что грибы больше подходят к мясу. Лимон и брусника к рыбе - конечно, беспроигрышный вариант, придают пикантности и отбивают характерный запах.
Когда выбирала суп, думала, что это будет что-то вроде молочного супа с ломтиками лосося. Была приятно удивлена: сливки отлично дополнили жирную рыбу. Нежный и необычный вкус. Думаю, лохикейто понравится тем, кто не очень любит рыбу. Вердикт: вкусно!
Калитки и другую свежую выпечку рекомендую брать в пекарне «Беккер».
Кижи
«Как приготовить вкусный яблочный пирог?» – заорал телевизор в соседней комнате. С этого вопроса, отчетливо и громко заданного ведущей «Первого канала» в шесть утра, началось суровое утро.
Спросонья мне показалось, что журналистка стоит на расстоянии вытянутой руки. Рискну предположить, что стены гостиницы делали из картона и пластилина: слышимость чудовищная!
Такое чувство, что я сегодня совсем не спала. Чайки орали, поезд гремел, собака лаяла, машина шуршала гравием. Да еще это «Доброе утро» на «Первом».
После душа иду за феном на ресепшен. Несчастный шипит и захлебывается, стоит только вставить вилку в розетку. Воздух горяч и жгуч. Переживаю, как бы не лишиться своей копны.
Спросонья мне показалось, что журналистка стоит на расстоянии вытянутой руки. Рискну предположить, что стены гостиницы делали из картона и пластилина: слышимость чудовищная!
Такое чувство, что я сегодня совсем не спала. Чайки орали, поезд гремел, собака лаяла, машина шуршала гравием. Да еще это «Доброе утро» на «Первом».
После душа иду за феном на ресепшен. Несчастный шипит и захлебывается, стоит только вставить вилку в розетку. Воздух горяч и жгуч. Переживаю, как бы не лишиться своей копны.
Сонные, мы с Лешей тащимся за билетами на «Комету». От «Лососинской» до причала идти не так уж и мало. Два километра по глухим местам, еще два – по центру города. Но плюсы есть. Большую часть пути видно Онежское озеро, сливающееся своей синевой с небесной лазурью. Где линия горизонта – непонятно. Мой искренний восторг вызывают утопающие в зелени сталинки. После каменных московских джунглей такое обилие парков кажется раем. Я счастлива: после стольких месяцев самоизоляции Петрозаводск, пожалуй, станет лучим лекарством от переполняющей меня меланхолии.
Знакомой дорогой по улице Гоголя проходим мимо злополучного дома с жуками, идем вдоль сквера, роскошных фасадов домов, музыкального театра. Все бы хорошо, только пешеходные переходы в этом городе уж больно странные. На перекрестках всего один из четырех съездов обозначен зеброй и знаком. Видно, экономили краску. Ну или забыли, что пешеходы не шахматные фигуры, буковой «Г» не ходят.
Подходим к водному вокзалу. Очередь на километр, хоть кассы откроются только через полчаса. Занимаем место и ждем. В полусотне метров мужики с пивными животами гогоча лезут в воду. Плывут прямо на переливающееся масляное пятно от старого катера. Как точно подметил Суворов, что русскому хорошо, то немцу смерть.
На горизонте открывается картина поразительной красоты. Озеро неустанно борется с небом: густой туман рисует красивый градиент. Лишь островки-точки подсказывают, где спрятана граница между двумя стихиями.
Кассы открыты. Очередь превращается в толпу и ломится внутрь крошечного помещения. Выясняется, что у многих почему-то слетела бронь. Свободных билетов нет. Кажется, планы рухнули. Поникшие, мы выходим с другими несчастными из здания. Солнце печет, и кажется, что я вовсе не на севере, а на морском курорте.
Возле крошечного здания водного вокзала стоит ларек с надписью «Экскурсии. Валаам, Кижи, Рускеала». За массивным столом сидит на удивление ухоженная и стильная женщина. Ногтем с аккуратным маникюром она водит по буклетам и объясняет: «Не сможем дозвониться до клиентов – займете их места в "Комете" на 10.00. Нет – остались места на 14.00, придержим для вас».
На 10.00 уехать не удалось. Но лучше уж так, чем никак: на следующие дни прогноз выдавал проливные дожди. Не самая подходящая погода для такой поездки.
Знакомой дорогой по улице Гоголя проходим мимо злополучного дома с жуками, идем вдоль сквера, роскошных фасадов домов, музыкального театра. Все бы хорошо, только пешеходные переходы в этом городе уж больно странные. На перекрестках всего один из четырех съездов обозначен зеброй и знаком. Видно, экономили краску. Ну или забыли, что пешеходы не шахматные фигуры, буковой «Г» не ходят.
Подходим к водному вокзалу. Очередь на километр, хоть кассы откроются только через полчаса. Занимаем место и ждем. В полусотне метров мужики с пивными животами гогоча лезут в воду. Плывут прямо на переливающееся масляное пятно от старого катера. Как точно подметил Суворов, что русскому хорошо, то немцу смерть.
На горизонте открывается картина поразительной красоты. Озеро неустанно борется с небом: густой туман рисует красивый градиент. Лишь островки-точки подсказывают, где спрятана граница между двумя стихиями.
Кассы открыты. Очередь превращается в толпу и ломится внутрь крошечного помещения. Выясняется, что у многих почему-то слетела бронь. Свободных билетов нет. Кажется, планы рухнули. Поникшие, мы выходим с другими несчастными из здания. Солнце печет, и кажется, что я вовсе не на севере, а на морском курорте.
Возле крошечного здания водного вокзала стоит ларек с надписью «Экскурсии. Валаам, Кижи, Рускеала». За массивным столом сидит на удивление ухоженная и стильная женщина. Ногтем с аккуратным маникюром она водит по буклетам и объясняет: «Не сможем дозвониться до клиентов – займете их места в "Комете" на 10.00. Нет – остались места на 14.00, придержим для вас».
На 10.00 уехать не удалось. Но лучше уж так, чем никак: на следующие дни прогноз выдавал проливные дожди. Не самая подходящая погода для такой поездки.
Остров Кижи является одной из визитных карточек Карелии. Он входит в состав архипелага Кижские шхеры, который носит статус природного заказника.
Кижский погост на острове включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как один из наиболее выдающихся памятников древнего деревянного зодчества Севера. Считается, что в последнюю войну финский летчик, пораженный красотой соборов, не выполнил приказ о бомбардировке острова.
На основе ансамбля погоста создан известный всему миру архитектурный музей-заповедник. Здесь собраны памятники архитектуры, предметы быта, иконы, которые на протяжении трех последних столетий создавались в русских, карельских и вепсских деревнях. Площадь музея под открытым небом – больше 10 гектаров.
Кижский погост на острове включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как один из наиболее выдающихся памятников древнего деревянного зодчества Севера. Считается, что в последнюю войну финский летчик, пораженный красотой соборов, не выполнил приказ о бомбардировке острова.
На основе ансамбля погоста создан известный всему миру архитектурный музей-заповедник. Здесь собраны памятники архитектуры, предметы быта, иконы, которые на протяжении трех последних столетий создавались в русских, карельских и вепсских деревнях. Площадь музея под открытым небом – больше 10 гектаров.
До отправления «Кометы» у нас в запасе несколько часов. Завтракаем кофе (опять робуста!) с круассаном возле памятника Марксу и Энгельсу. Они сидят на бронзовой лавочке, застывшие в моменте какого-то важного диалога.
Потом гуляем по набережной (как и в Казани, она сделана хорошо). Леша фотографирует меня с каменным кошельком удачи – подарком Риги Петрозаводску. Я тру кошелек по инструкции и прошу холодный гранит поскорее вернуть ту космическую сумму, которую мы потратили на билеты до острова.
Финалом прогулки становится кофепитие в местном лакшери-ресторане с видом на озеро. Пью свой латте и чувствую себя ЕвГением Понасенковым в Сорренто: ну как тут не сделать концептуальное фото!
Потом гуляем по набережной (как и в Казани, она сделана хорошо). Леша фотографирует меня с каменным кошельком удачи – подарком Риги Петрозаводску. Я тру кошелек по инструкции и прошу холодный гранит поскорее вернуть ту космическую сумму, которую мы потратили на билеты до острова.
Финалом прогулки становится кофепитие в местном лакшери-ресторане с видом на озеро. Пью свой латте и чувствую себя ЕвГением Понасенковым в Сорренто: ну как тут не сделать концептуальное фото!
Наследие Советского Союза, старая «Комета», отданная на откуп частнику, переполнена. Кроме меня, в масках сидят всего две девушки-китаянки. И это несмотря на надписи, что вход и проезд на судне возможен только в масках. Занимаем место в носовой части. Воздух нагрет так, что сердце начинает плясать в груди. Такое чувство, что я попала в баню. Судно отчаливает, мы идем на прогулочную палубу дышать свежим воздухом и смотреть на медленно отдаляющийся город.
Озеро кажется бесконечным. Те островки-точки, которые я видела с берега, и правда крошечные. Там растут несколько деревьев и греются на камнях огромные чайки, объевшиеся рыбы. Острова видны и с правого, и с левого борта «Кометы». Пассажиры набиваются в открытые части судна, чтобы полюбоваться необычными видами.
Когда в поле зрения возникает Кижский погост, на прогулочные палубы выходят, кажется, все пассажиры. Толпятся, работают локтями, дышат друг другу в затылки и говорят гадости. Все ради того, чтоб сделать сомнительного качества фотографию на телефон, где ансамбль погоста из-за большого расстояния смотрится невнятной точкой.
Пришвартовались. Проходим через череду туристических магазинчиков и ищем указатель к кассам ансамбля: времени не так много, нужно опередить заинтересовавшуюся сувенирами толпу.
Мы заранее взяли электронный билет, поэтому смело обходим очередь к кассам и проходим через турникет на территорию заповедника. Там стоит женщина-экскурсовод в спортивной экипировке. Вскоре вся группа в сборе и мы идем к главному храму ансамбля – церкви Преображения Господня. Вся она, кроме искусно крытых осиновым лемехом куполов, срублена без единого гвоздя. Аналогов храму нет ни в русской, ни в мировой архитектуре.
Когда в поле зрения возникает Кижский погост, на прогулочные палубы выходят, кажется, все пассажиры. Толпятся, работают локтями, дышат друг другу в затылки и говорят гадости. Все ради того, чтоб сделать сомнительного качества фотографию на телефон, где ансамбль погоста из-за большого расстояния смотрится невнятной точкой.
Пришвартовались. Проходим через череду туристических магазинчиков и ищем указатель к кассам ансамбля: времени не так много, нужно опередить заинтересовавшуюся сувенирами толпу.
Мы заранее взяли электронный билет, поэтому смело обходим очередь к кассам и проходим через турникет на территорию заповедника. Там стоит женщина-экскурсовод в спортивной экипировке. Вскоре вся группа в сборе и мы идем к главному храму ансамбля – церкви Преображения Господня. Вся она, кроме искусно крытых осиновым лемехом куполов, срублена без единого гвоздя. Аналогов храму нет ни в русской, ни в мировой архитектуре.
Экскурсовод предупреждает, что в траве могут греться на солнце гадюки. Ходить желательно только по тропинкам, причем даже в этом случае желательно шуметь и топать ногами.
Мы подходим все ближе к погосту, и мне не верится, что я вживую вижу то, о чем раньше читала в энциклопедиях. Такое чувство, что я попала в сказку, что сейчас на сером волке проедет Иванушка с Еленой Прекрасной и увезет ее в тот богатый крестьянский дом (не дворец, зато по любви!), где нам обещали показать сотни предметов крестьянского быта.
Запускают в строения по пятеро-шестеро, следят за наличием маски и каждый раз заставляют дезинфицировать руки. Экскурсия пролетает незаметно, нам дают время для самостоятельной прогулки по острову.
Завидев людей, с тропинки к воде разбегается полчище уток. Птенцы чайки тоже недовольны тем, что их потревожили. Они еще не умеют летать, поэтому неуклюже ходят по земле, смешно раскачивая задом. Какой-то глупый мальчишка решил было за ними погнаться, но с неба камнем рухнула мама-чайка, показывая свои намерения биться за детей до последнего. Хорошо, что птенцы скрылись в высокой траве – мы же отделались легким испугом.
На Кижах хорошо. Здесь хочется спрятаться от цивилизации. Слушать крики чаек и качек, сидеть на берегу и следить за легким колыханием воды кристально чистого Онежского озера. Жаль, что временем нельзя управлять. Когда на душе так хорошо и спокойно, как в Кижах, оно летит незаметно.
Мы подходим все ближе к погосту, и мне не верится, что я вживую вижу то, о чем раньше читала в энциклопедиях. Такое чувство, что я попала в сказку, что сейчас на сером волке проедет Иванушка с Еленой Прекрасной и увезет ее в тот богатый крестьянский дом (не дворец, зато по любви!), где нам обещали показать сотни предметов крестьянского быта.
Запускают в строения по пятеро-шестеро, следят за наличием маски и каждый раз заставляют дезинфицировать руки. Экскурсия пролетает незаметно, нам дают время для самостоятельной прогулки по острову.
Завидев людей, с тропинки к воде разбегается полчище уток. Птенцы чайки тоже недовольны тем, что их потревожили. Они еще не умеют летать, поэтому неуклюже ходят по земле, смешно раскачивая задом. Какой-то глупый мальчишка решил было за ними погнаться, но с неба камнем рухнула мама-чайка, показывая свои намерения биться за детей до последнего. Хорошо, что птенцы скрылись в высокой траве – мы же отделались легким испугом.
На Кижах хорошо. Здесь хочется спрятаться от цивилизации. Слушать крики чаек и качек, сидеть на берегу и следить за легким колыханием воды кристально чистого Онежского озера. Жаль, что временем нельзя управлять. Когда на душе так хорошо и спокойно, как в Кижах, оно летит незаметно.
 |  |
Последняя «Комета» до Петрозаводска отходит в 18.00. Идем к причалу заранее: как бы здесь ни нравилось, выбраться будет проблематично, если пропустим свой рейс. Ужинаем ухой в атмосферном ресторанчике с отличным видом на погост и озеро. Наглые галки состязаются с чайками, кто из них отхватит себе еду. Побеждают юркие галки: чайки здесь насколько крупные, что напоминают летающих бройлеров.
Вскоре «Комета» забирает нас из этого сказочного места и мчит в Петрозаводск. Завтра предстоит не менее интересный день.
Вскоре «Комета» забирает нас из этого сказочного места и мчит в Петрозаводск. Завтра предстоит не менее интересный день.
Кондопога → водопад Кивач
Благозвучное название города Кондопога несет в себе зловещий смысл: сочетание двух карельских слов «кондо» и «пога» означает «медвежий угол». Медведи здесь и правда водятся: новости о том, как они пробираются к местным во двор, чтобы полакомиться яблоками, ежегодно пополняют поисковики.
Это второй по величине город Республики Карелия. Статус города Кондопога получила лишь в 1938 году. Большая часть населения работает на целлюлозно-бумажном комбинате. Этим город и живет: здесь производится треть всей газетной бумаги в России.
В начале ХХ века на реке Суона началось строительство крупнейшей в России ГЭС. Ее энергию хотели использовать для нового завода по производству азотной кислоты. Однако события 1917 года помешали этим амбициозным планам. Строительство ГЭС продолжилось после 1920 года и завершилось к началу 1930-х годов.
Во время Великой Отечественной войны вся территория района была занята финскими оккупантами. Все предприятия города, включая ГЭС, были полностью разрушены.
Сегодня Кондопогу чаще вспоминают по событиям 2006 года. В ресторане «Чайка» два местных жителя повздорили с официантом, нелегальным иммигрантом из Азербайджана. Началась драка. Официант позвал на помощь знакомых чеченцев, «крышующих» ресторан. Вооруженные ножами, битами и металлическими прутьями, те приехали наказывать недовольных посетителей. Когда не нашли обидчиков официанта в ресторане, начали избивать и калечить всех подряд местных жителей, находившихся на улице возле заведения. В результате двое человек погибли на месте от ножевых ранений, девять человек доставили в больницу, из них пятеро — в реанимацию.
На следующий день по местному телевидению показали сюжет, в котором произошедшее было названо «бытовой дракой». Это и всколыхнуло местное население. Начались беспорядки. Вскоре состоялся народный сход жителей Кондопоги. Участники (около 2000 человек) потребовали от властей выселить в течение суток всех нелегальных мигрантов. Карельские власти эвакуировали в Петрозаводск около 60 лиц кавказских национальностей.
Это второй по величине город Республики Карелия. Статус города Кондопога получила лишь в 1938 году. Большая часть населения работает на целлюлозно-бумажном комбинате. Этим город и живет: здесь производится треть всей газетной бумаги в России.
В начале ХХ века на реке Суона началось строительство крупнейшей в России ГЭС. Ее энергию хотели использовать для нового завода по производству азотной кислоты. Однако события 1917 года помешали этим амбициозным планам. Строительство ГЭС продолжилось после 1920 года и завершилось к началу 1930-х годов.
Во время Великой Отечественной войны вся территория района была занята финскими оккупантами. Все предприятия города, включая ГЭС, были полностью разрушены.
Сегодня Кондопогу чаще вспоминают по событиям 2006 года. В ресторане «Чайка» два местных жителя повздорили с официантом, нелегальным иммигрантом из Азербайджана. Началась драка. Официант позвал на помощь знакомых чеченцев, «крышующих» ресторан. Вооруженные ножами, битами и металлическими прутьями, те приехали наказывать недовольных посетителей. Когда не нашли обидчиков официанта в ресторане, начали избивать и калечить всех подряд местных жителей, находившихся на улице возле заведения. В результате двое человек погибли на месте от ножевых ранений, девять человек доставили в больницу, из них пятеро — в реанимацию.
На следующий день по местному телевидению показали сюжет, в котором произошедшее было названо «бытовой дракой». Это и всколыхнуло местное население. Начались беспорядки. Вскоре состоялся народный сход жителей Кондопоги. Участники (около 2000 человек) потребовали от властей выселить в течение суток всех нелегальных мигрантов. Карельские власти эвакуировали в Петрозаводск около 60 лиц кавказских национальностей.

Автовокзал Петрозаводска
Раннее и голодное утро. Идем к автовокзалу закоулками на окраине Петрозаводска. Странные здания с панорамным остеклением балконов напоминают обновленные хрущевки (Леша восхищен: вот умеют же как в Германии!), но всемогущий Google говорит, что это новый микрорайон. Скоро асфальт сменяет щебенка, а потом и вовсе песок. Вместо унылых «хрущевок» вырастают деревянные бараки и покосившиеся домишки, стыдливо прячущиеся от глаз прохожих за высоким бурьяном. Дополняет картину здание шиномонтажа, которое выглядит так, будто пережило все невзгоды ХХ века.
Здание вокзала органично вписывается в пейзаж. Навстречу идет ребенок, который смотрит нас как на пришельцев и громко говорит матери: «Мама, они болеют вирусом что ли? Почему дядя и тетя в маске?» Меня передергивает от «тети» и от такой беспечности: вряд ли маленький ребенок сам мог сделать вывод о том, что носить маску – значит, болеть коронавирусом.
Билеты куплены, но сонное состояние не проходит. Видим навес и сверкающую витрину, за которой под желтыми лампами лежит аппетитная выпечка. Кафе «Беккер» оказалось удивительно качественным для такого места. И выпечка, и обслуживание были на высоком уровне. Я лакомилась пирожным Павлова и чувствовала себя как в раю. Раю российской глубинки.
Недопитый кофе отправился со мной на перрон. Жуткий сквозняк, ледяной металл сидений и десятки людей без масок создавали особую атмосферу. Дополняли картину наглые голуби. Я очень люблю животных и птиц, но наглость этих созданий не знала границ.
Мы стали жертвами голубиного голода. Птицы действовали слаженно, удивительно профессионально. Они обступили нас со всех сторон, поочередно глядя на кофе то правым, то левым глазом и характерно покачивая сизой головой. Самые смелые норовили приземлиться на колени, даже на голову. Кольцо пернатых сжималось вокруг нас. Леша злился и гонял их уже ногами, а я защищала несчастных (которые мне тоже порядком осточертели) и кричала: «Не обижай птиц! Эй, ему же больно!»
Не помогали ни потопывания ногой, ни громкие звуки и ни размахивания руками. Птицы были беспощадны. Вспомнила, как на станции метро «Белорусская» голубей отпугивали звуками раненой птицы, будто на ту напал хищник. Нечто подобное я воспроизвести не могла, но еще пару минут такого ментального террора, и я бы взмолилась: «Урлурлу! У меня ничего нет!»
Спасла нас какая-то дама, которая начала крошить батон на грязный перрон. Голуби взмахнули крыльями и с шумом ринулись к вожделенному корму. Мы выдохнули и допили свой подостывший кофе.
Здание вокзала органично вписывается в пейзаж. Навстречу идет ребенок, который смотрит нас как на пришельцев и громко говорит матери: «Мама, они болеют вирусом что ли? Почему дядя и тетя в маске?» Меня передергивает от «тети» и от такой беспечности: вряд ли маленький ребенок сам мог сделать вывод о том, что носить маску – значит, болеть коронавирусом.
Билеты куплены, но сонное состояние не проходит. Видим навес и сверкающую витрину, за которой под желтыми лампами лежит аппетитная выпечка. Кафе «Беккер» оказалось удивительно качественным для такого места. И выпечка, и обслуживание были на высоком уровне. Я лакомилась пирожным Павлова и чувствовала себя как в раю. Раю российской глубинки.
Недопитый кофе отправился со мной на перрон. Жуткий сквозняк, ледяной металл сидений и десятки людей без масок создавали особую атмосферу. Дополняли картину наглые голуби. Я очень люблю животных и птиц, но наглость этих созданий не знала границ.
Мы стали жертвами голубиного голода. Птицы действовали слаженно, удивительно профессионально. Они обступили нас со всех сторон, поочередно глядя на кофе то правым, то левым глазом и характерно покачивая сизой головой. Самые смелые норовили приземлиться на колени, даже на голову. Кольцо пернатых сжималось вокруг нас. Леша злился и гонял их уже ногами, а я защищала несчастных (которые мне тоже порядком осточертели) и кричала: «Не обижай птиц! Эй, ему же больно!»
Не помогали ни потопывания ногой, ни громкие звуки и ни размахивания руками. Птицы были беспощадны. Вспомнила, как на станции метро «Белорусская» голубей отпугивали звуками раненой птицы, будто на ту напал хищник. Нечто подобное я воспроизвести не могла, но еще пару минут такого ментального террора, и я бы взмолилась: «Урлурлу! У меня ничего нет!»
Спасла нас какая-то дама, которая начала крошить батон на грязный перрон. Голуби взмахнули крыльями и с шумом ринулись к вожделенному корму. Мы выдохнули и допили свой подостывший кофе.
Вот и автобус. Ветхий и дряхлый. Люди окружили его, как мухи тухлятину: все ради того, чтоб занять места не на солнечной стороне. В масках единицы, отовсюду слышны покашливания. Водителю на масочный режим наплевать. Главное, чтоб был билет.
Едем долго и мучительно. Это вам не Европа, не Ecolines да FlixBus. Автобусы старые, дороги убитые, конкуренции никакой – короче говоря, государство курит в сторонке, пока народ убивается в попытке проехать несчастные полсотни километров.
Выходим в Кондопоге на площади возле вокзала. Кругом пустота, сталинский размах, потрепанный временем и безвкусицей. Ищу кафе, чтобы привести мозг к просветленному состоянию. Какая-то одинокая женщина говорит, что кафе есть только в центре. Время драгоценно, пора спешить на водопад. Кондопогу оставляем на закуску.
Такси уносит вдаль от какой-никакой, но цивилизации. За окном скользят деревья, холмы, озера. Красота! Мы подъезжаем к заповеднику. Получаем билеты и идем по узкой тропинке к водопаду: шум воды, обрушивающейся на камни, слышен издалека.
Кивач – некогда крупнейший равнинный водопад России и второй по величине равнинный водопад Европы. В его честь написал стихотворение поэт Гаврила Державин (кстати, первый губернатор края), его неукротимую мощь запечатлел на фотоснимках Сергей Прокудин-Горский, любоваться Кивачом приезжал Александр II.
Водопад смотрится очень эффектно, хотя и утратил былую мощь: причиной стало строительство ГЭС в 1920-1930-х годах. Почти полностью пересохли расположенные выше по течению водопады Порпорог и Гирвас (а ведь они были мощнее и выше Кивача. Некое подобие былой силы в наши дни водопад приобретает весной, когда тает снег.
Вдоволь нагулявшись по территории заповедника и заглянув в музей (услышала, как экскурсовод говорил, что карельскую березу можно куда чаще встретить в Беларуси, нежели в Карелии), мы отправилась в кафе «Седой Кивач» за выпечкой и квасом. Я пригубила напиток и почувствовала, что в бутылке плавает нечто, что по идее не должно там находиться.
Присмотрелась и обнаружила странную шарообразную желтую штуку, вокруг которой собирались пузырьки газа. Уже собиралась идти ругаться, как увидела мелкую надпись на этикетке. Оказалось, что это такая фишка традиционного карельского кваса. Подивившись этому факту, я проглотила плавающую виноградину (а это была именно она). У Леши тоже такая была в напитке, только раза в четыре меньше, из-за чего он ее заметил не сразу.
Красный Ford вновь подан к выходу из заповедника. Делаю кадры с деревянными мишками, любуюсь лошадью, которую кормят морковкой и яблоками, и покидаю это место с таким чувством, будто все мои проблемы разбились о камни вместе с водами могучего Кивача.
Едем долго и мучительно. Это вам не Европа, не Ecolines да FlixBus. Автобусы старые, дороги убитые, конкуренции никакой – короче говоря, государство курит в сторонке, пока народ убивается в попытке проехать несчастные полсотни километров.
Выходим в Кондопоге на площади возле вокзала. Кругом пустота, сталинский размах, потрепанный временем и безвкусицей. Ищу кафе, чтобы привести мозг к просветленному состоянию. Какая-то одинокая женщина говорит, что кафе есть только в центре. Время драгоценно, пора спешить на водопад. Кондопогу оставляем на закуску.
Такси уносит вдаль от какой-никакой, но цивилизации. За окном скользят деревья, холмы, озера. Красота! Мы подъезжаем к заповеднику. Получаем билеты и идем по узкой тропинке к водопаду: шум воды, обрушивающейся на камни, слышен издалека.
Кивач – некогда крупнейший равнинный водопад России и второй по величине равнинный водопад Европы. В его честь написал стихотворение поэт Гаврила Державин (кстати, первый губернатор края), его неукротимую мощь запечатлел на фотоснимках Сергей Прокудин-Горский, любоваться Кивачом приезжал Александр II.
Водопад смотрится очень эффектно, хотя и утратил былую мощь: причиной стало строительство ГЭС в 1920-1930-х годах. Почти полностью пересохли расположенные выше по течению водопады Порпорог и Гирвас (а ведь они были мощнее и выше Кивача. Некое подобие былой силы в наши дни водопад приобретает весной, когда тает снег.
Вдоволь нагулявшись по территории заповедника и заглянув в музей (услышала, как экскурсовод говорил, что карельскую березу можно куда чаще встретить в Беларуси, нежели в Карелии), мы отправилась в кафе «Седой Кивач» за выпечкой и квасом. Я пригубила напиток и почувствовала, что в бутылке плавает нечто, что по идее не должно там находиться.
Присмотрелась и обнаружила странную шарообразную желтую штуку, вокруг которой собирались пузырьки газа. Уже собиралась идти ругаться, как увидела мелкую надпись на этикетке. Оказалось, что это такая фишка традиционного карельского кваса. Подивившись этому факту, я проглотила плавающую виноградину (а это была именно она). У Леши тоже такая была в напитке, только раза в четыре меньше, из-за чего он ее заметил не сразу.
Красный Ford вновь подан к выходу из заповедника. Делаю кадры с деревянными мишками, любуюсь лошадью, которую кормят морковкой и яблоками, и покидаю это место с таким чувством, будто все мои проблемы разбились о камни вместе с водами могучего Кивача.
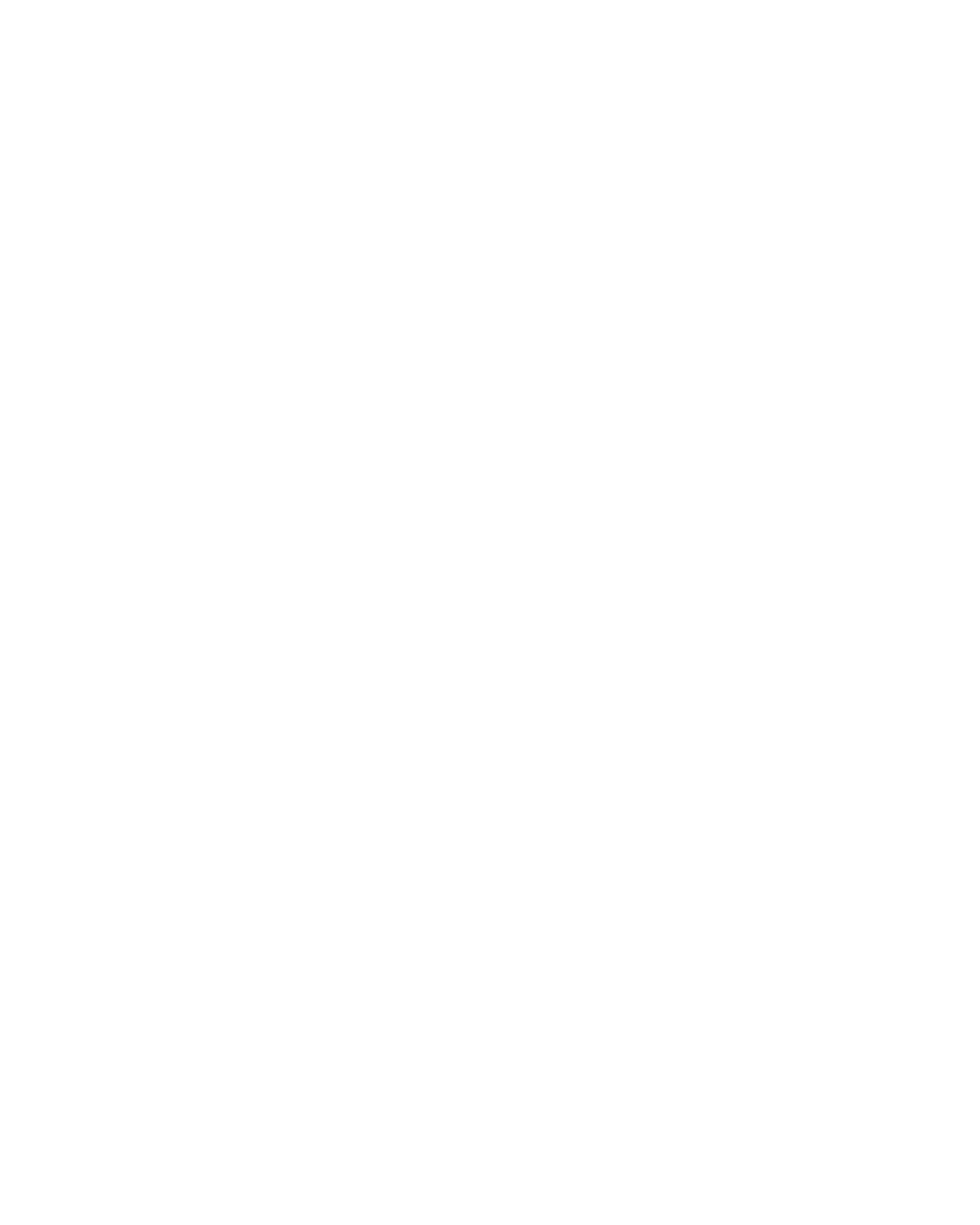 | 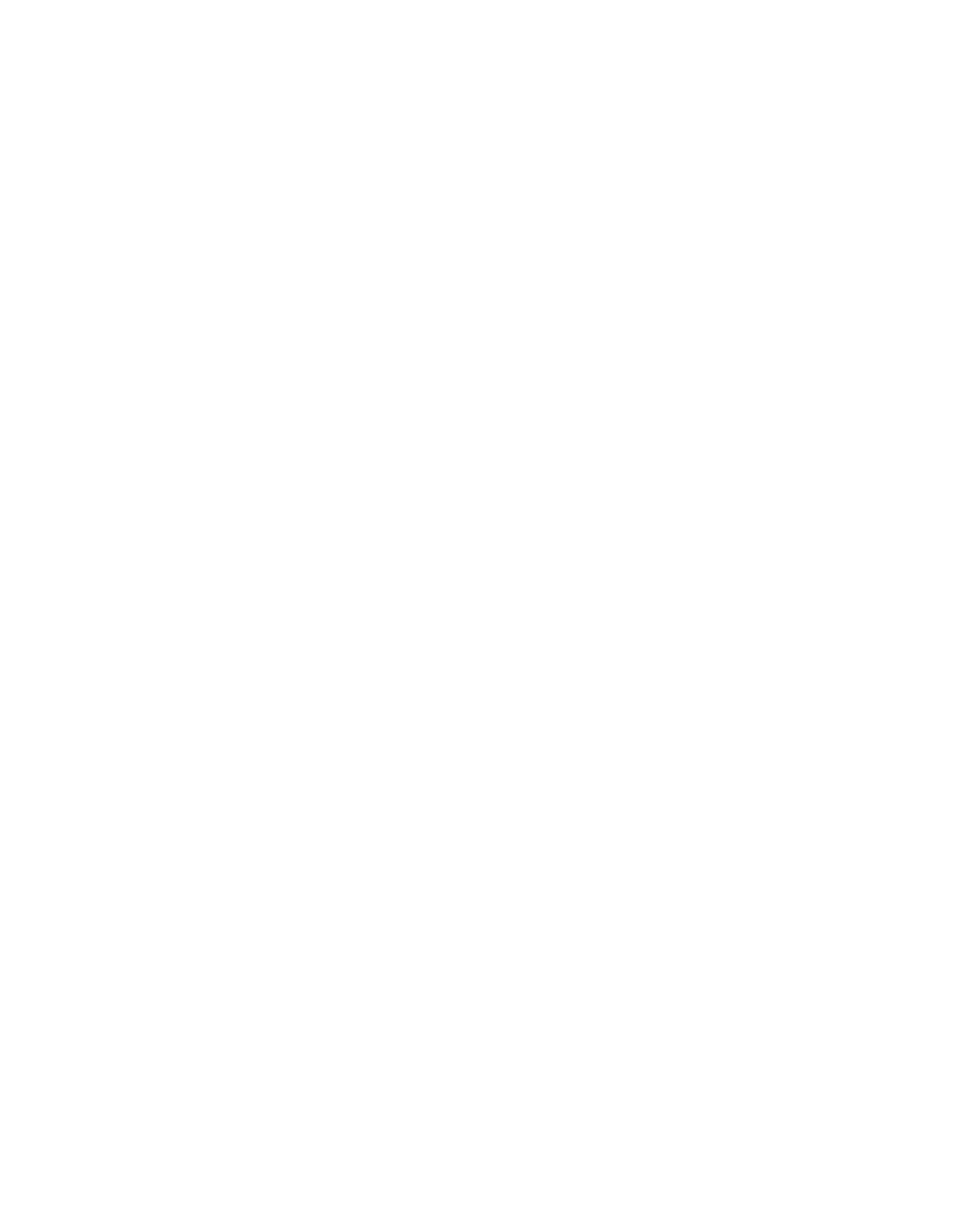 |
И вот мы снова в Кондопоге. Делать здесь особо нечего. В городе много архитектуры сталинского периода, но она требует ремонта. Хотели попасть в музей Кондопожского края (единственный на десятки или даже сотни километров), но он оказался закрыт. Монумент Ленину, мимо которого лежал мой путь, тоже оказался не в лучшем состоянии. Подойти к озеру не представлялось возможным, разве что прямиком через трещащий кузнечиками полутораметровый бурьян. Молодые парни со славянскими лицами весело красили забор возле дороги. Их кислотные жилеты рябили в глазах, и я не сразу поняла, что именно заставило меня обратить на них внимание.
Вот возникает знакомая вывеска «Беккер». Надежда не подводит меня: свежее пирожное Павлова и горячий кофе отлично приводят в чувство после насыщенного дня. Еда (особенно хорошая еда) – великая вещь. После нее не страшны невзгоды в виде разваливающегося автобуса до Петрозаводска.
Вот возникает знакомая вывеска «Беккер». Надежда не подводит меня: свежее пирожное Павлова и горячий кофе отлично приводят в чувство после насыщенного дня. Еда (особенно хорошая еда) – великая вещь. После нее не страшны невзгоды в виде разваливающегося автобуса до Петрозаводска.
 |  |  |
Каков
этнический состав?

Каков
этнический состав?
Рассказываем о народах, проживающих на территории Карелии. Интересный факт: государственный язык в республике русский, но школьники могут изучать карельский, вепсский или финский языки как родные.
Карелы
Судя по карте, собственно карелы населяют большую часть современной Карелии. Это заблуждение. На этой огромной территории проживает лишь одна десятая часть населения всей республики и четверть всех карелов. Будучи рыбаками и охотниками, карелы разводили также северных оленей, занимались коробейничеством.
Судя по карте, собственно карелы населяют большую часть современной Карелии. Это заблуждение. На этой огромной территории проживает лишь одна десятая часть населения всей республики и четверть всех карелов. Будучи рыбаками и охотниками, карелы разводили также северных оленей, занимались коробейничеством.
Людики
Один из трех субэтносов карелов, проживает на северном и восточном побережье Онежского озера. Людики воспринимают свой язык как особый (всего 300 носителей), отличный от карельского языка. В общении называют себя именно людиками, не карелами.
Один из трех субэтносов карелов, проживает на северном и восточном побережье Онежского озера. Людики воспринимают свой язык как особый (всего 300 носителей), отличный от карельского языка. В общении называют себя именно людиками, не карелами.
Ливвики
Это субэтнос карелов, населяющий Олонецкую Карелию. Считается, частью древнего финно-угорского племени ливов, мигрировавших с территории современной Прибалтики в Приладожье. Сегодня карелы составляют половину Олонецкого района и почти треть всего карельского населения республики.
Это субэтнос карелов, населяющий Олонецкую Карелию. Считается, частью древнего финно-угорского племени ливов, мигрировавших с территории современной Прибалтики в Приладожье. Сегодня карелы составляют половину Олонецкого района и почти треть всего карельского населения республики.
Вепсы
Малочисленные потомки древнего народа весь. На территории Карелии живет около 3000 вепсов, проживают компактно к югу от Петрозаводска в селах Шокша, Шёлтозеро и Рыбрека. Относятся к финно-угорской языковой группе.
Малочисленные потомки древнего народа весь. На территории Карелии живет около 3000 вепсов, проживают компактно к югу от Петрозаводска в селах Шокша, Шёлтозеро и Рыбрека. Относятся к финно-угорской языковой группе.
Поморы
Появились в результате смешения финно-угорских племен с выходцами из Новгородско-Псковских земель. Местный язык – поморский говор. Поморская культура испытала сильное влияние городской среды, что можно заметить по смешению архаичных и современных мотивов на традиционной вышивке.
Появились в результате смешения финно-угорских племен с выходцами из Новгородско-Псковских земель. Местный язык – поморский говор. Поморская культура испытала сильное влияние городской среды, что можно заметить по смешению архаичных и современных мотивов на традиционной вышивке.
Пудожане
Изначально население Пудожья было финно-угорским, но позже земли были освоены русскими переселенцами. Пудожский район – самый северный в России, где выращивался на продажу лен. Русское население сохраняло черты своей культуры, в меньшей степени подвергаясь городскому влиянию.
Изначально население Пудожья было финно-угорским, но позже земли были освоены русскими переселенцами. Пудожский район – самый северный в России, где выращивался на продажу лен. Русское население сохраняло черты своей культуры, в меньшей степени подвергаясь городскому влиянию.
* Все карты кликабельны. Составители: А. Шредерс, С. Завьялов, И. Муллонен, Е. Логвиненко, И. Степанова, Н. Рыбин. Национальный музей Республики Карелия.


Заонежане
Так называют русское население Заонежского полуострова. Оно сформировалось в результате смешения выходцев из Новгорода и Пскова с саамским, вепсским и карельским населением. Местный язык – заонежский говор (славянская лексика с элементами прибалтийско-финнской).
Так называют русское население Заонежского полуострова. Оно сформировалось в результате смешения выходцев из Новгорода и Пскова с саамским, вепсским и карельским населением. Местный язык – заонежский говор (славянская лексика с элементами прибалтийско-финнской).


Шёлтозеро
Снова голодное, сонное утро. Снова путь к автовокзалу. На этот раз едем в Шёлтозеро. Там находится единственный в мире Вепсский этнографический музей. Вепсы – древнейший народ европейского Севера. Это потомки племен чуди и веси, которые упомянуты в «Повести временных лет». Сегодня общее число представителей народа не превышает шести тысяч.
Историческая застройка села Шёлтозеро сохранилась лишь фрагментарно, жилые дома отражают основные черты вепсского народного зодчества конца XIX – первой половины XX веков.
Без приключений, конечно же, не обошлось. Билеты на автобус (маршрут Петрозаводск-Вологда) брали накануне. Это был единственный вариант доехать в глушь, название которой ничего не говорит даже местным таксистам.
Подъем в полшестого утра был мучительным, но это цветочки по сравнению с переживаниями о том, сколько кашляющих и чихающих людей набилось в автобус без масок. Порадовало, что наши места оказалось в самом хвосте, хотя обычно я терпеть не могу ездить сзади – укачивает.
Пришлось изрядно потрястись в «чумном» автобусе, чтобы за два часа преодолеть 80 километров. Дорогу с очень большой натяжкой можно было назвать таковой: кочки и ямы вынуждали водителя ехать то по встречке, то по обочине; казалось, что это аттракцион, а не автобус.
Выходим на остановке напротив обшитого сайдингом магазина. Мучительно хочется кофе, но его (как и следовало ожидать) нигде поблизости не делают. Лишь шаурмщик предлагает отведать его шедевр.
Спрашиваем дорогу до музея у какого-то парня, он странно оглядывается по сторонам и отправляет нас, как оказалось потом, в противоположном направлении. Зато я делаю ряд интересных открытий. Например, что некоторые дома здесь выглядят так, будто только вчера здесь прошел немец: полуразрушенные и горелые, а где-то и вовсе одни каменные печи.
За полчаса до открытия музея стоим у входа. В траве что-то шелестит. Змея? Выдыхаю. Ласковый белоснежный кот мурлыча подходит ко мне и трется о ноги. Молочно-белая шерсть покрывает мои угольно-черные джинсы. Кот не отходит от меня до самого открытия музея, будто ждет, что я заберу его с собой. Кот, я не против. Леша, берем? Нет, ну раз нужно выбирать между Лешей и котом, то выбор очевиден. Кот, извини.
Двери музея открываются, на крыльцо выходит женщина. Обращаю внимание на необычные черты лица – вепска. Она говорит, что экскурсовод будет с минуты на минуту, расспрашивает, откуда узнали о музее, как добирались. Подъезжает машина, выходит экскурсовод. Нас ведут в огромный деревянный дом купца Мелькина.
Дом строился для большой зажиточной вепсской крестьянской семьи Мелькиных во второй половине XIX века. Глава семьи занимался поставкой малинового кварцита и габбро-диабаза (очень редкого камня) на стройки Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
Сегодня здесь расположен Вепсский этнографический музей имени Рюрика Лонина с богатой коллекцией вещей, которые рассказывают о традиционных занятиях и промыслах, быте и хозяйстве, народных верованиях и праздниках вепсов.
Постоянная экспозиция музея не слишком большая: две комнаты первого этажа и сени. Экскурсовод рассказала следующее:
Историческая застройка села Шёлтозеро сохранилась лишь фрагментарно, жилые дома отражают основные черты вепсского народного зодчества конца XIX – первой половины XX веков.
Без приключений, конечно же, не обошлось. Билеты на автобус (маршрут Петрозаводск-Вологда) брали накануне. Это был единственный вариант доехать в глушь, название которой ничего не говорит даже местным таксистам.
Подъем в полшестого утра был мучительным, но это цветочки по сравнению с переживаниями о том, сколько кашляющих и чихающих людей набилось в автобус без масок. Порадовало, что наши места оказалось в самом хвосте, хотя обычно я терпеть не могу ездить сзади – укачивает.
Пришлось изрядно потрястись в «чумном» автобусе, чтобы за два часа преодолеть 80 километров. Дорогу с очень большой натяжкой можно было назвать таковой: кочки и ямы вынуждали водителя ехать то по встречке, то по обочине; казалось, что это аттракцион, а не автобус.
Выходим на остановке напротив обшитого сайдингом магазина. Мучительно хочется кофе, но его (как и следовало ожидать) нигде поблизости не делают. Лишь шаурмщик предлагает отведать его шедевр.
Спрашиваем дорогу до музея у какого-то парня, он странно оглядывается по сторонам и отправляет нас, как оказалось потом, в противоположном направлении. Зато я делаю ряд интересных открытий. Например, что некоторые дома здесь выглядят так, будто только вчера здесь прошел немец: полуразрушенные и горелые, а где-то и вовсе одни каменные печи.
За полчаса до открытия музея стоим у входа. В траве что-то шелестит. Змея? Выдыхаю. Ласковый белоснежный кот мурлыча подходит ко мне и трется о ноги. Молочно-белая шерсть покрывает мои угольно-черные джинсы. Кот не отходит от меня до самого открытия музея, будто ждет, что я заберу его с собой. Кот, я не против. Леша, берем? Нет, ну раз нужно выбирать между Лешей и котом, то выбор очевиден. Кот, извини.
Двери музея открываются, на крыльцо выходит женщина. Обращаю внимание на необычные черты лица – вепска. Она говорит, что экскурсовод будет с минуты на минуту, расспрашивает, откуда узнали о музее, как добирались. Подъезжает машина, выходит экскурсовод. Нас ведут в огромный деревянный дом купца Мелькина.
Дом строился для большой зажиточной вепсской крестьянской семьи Мелькиных во второй половине XIX века. Глава семьи занимался поставкой малинового кварцита и габбро-диабаза (очень редкого камня) на стройки Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
Сегодня здесь расположен Вепсский этнографический музей имени Рюрика Лонина с богатой коллекцией вещей, которые рассказывают о традиционных занятиях и промыслах, быте и хозяйстве, народных верованиях и праздниках вепсов.
Постоянная экспозиция музея не слишком большая: две комнаты первого этажа и сени. Экскурсовод рассказала следующее:
⬥ Мировоззрение вепсов сочетает в себе как православие, так и языческие верования. Например, представители этого народа считают, что мир обязан своим появлением утиному яйцу, а леса, поля и воды имеют своих духов-хозяев, которых нужно задабривать. По этой причине считалось, что медведь никогда не нападет на вепса, если тот уважил духа леса особыми подарками. Также вепсы верят, что бабочки – это души умерших родственников, которые приходят в этот мир узнать, как живут их близкие, дать им знак.
⬥ Вепсские женщины обожали звенящие украшения. Существовала поговорка, что сначала вепсскую женщину слышат, а потом уже видят.
⬥ Мужчины-вепсы часто уходили на заработки, так что на этот период абсолютно всей работой по хозяйству занимались женщины.
⬥ Главным хобби для мужчин была рыбалка. Основное их занятие – работа с деревом. Мужчины создавали кухонную утварь, ткацкие станки, предметы мебели, срубали дома. Еще искусно работали с камнем. В этих местах есть залежи редкого малинового кварцита (к слову, из этого камня сделан саркофаг Наполеона в Доме инвалидов в Париже).
⬥ Невест брали из своего же села, максимум из соседнего. На брак нужно было получить разрешение от родителей. Вепсы были крайне стеснительными, поэтому приходили свататься, не заявляя вслух о своих намерениях. Состоится свадьба или нет они узнавали весьма странным способом в сенях: нашел черпак – значит, семья согласна, ступку – браку не бывать. Накануне парень и девушка обменивались подарками. Он дарил ей кольцо, она ему – шейный платок. Если свадьба не состоялась, подарки возвращали.
⬥ Старшее поколение еще говорит на вепсском языке, а молодежь уже нет (при этом в школе есть обязательный предмет по изучению этого языка).
⬥ Вепсские женщины обожали звенящие украшения. Существовала поговорка, что сначала вепсскую женщину слышат, а потом уже видят.
⬥ Мужчины-вепсы часто уходили на заработки, так что на этот период абсолютно всей работой по хозяйству занимались женщины.
⬥ Главным хобби для мужчин была рыбалка. Основное их занятие – работа с деревом. Мужчины создавали кухонную утварь, ткацкие станки, предметы мебели, срубали дома. Еще искусно работали с камнем. В этих местах есть залежи редкого малинового кварцита (к слову, из этого камня сделан саркофаг Наполеона в Доме инвалидов в Париже).
⬥ Невест брали из своего же села, максимум из соседнего. На брак нужно было получить разрешение от родителей. Вепсы были крайне стеснительными, поэтому приходили свататься, не заявляя вслух о своих намерениях. Состоится свадьба или нет они узнавали весьма странным способом в сенях: нашел черпак – значит, семья согласна, ступку – браку не бывать. Накануне парень и девушка обменивались подарками. Он дарил ей кольцо, она ему – шейный платок. Если свадьба не состоялась, подарки возвращали.
⬥ Старшее поколение еще говорит на вепсском языке, а молодежь уже нет (при этом в школе есть обязательный предмет по изучению этого языка).
После музея мы пообедали в неплохой дешевой столовой. Обожаю наваристые столовские супы, и тут ожидания меня не подвели: супец был что надо. А потом началось самое интересное.
Автобус в Петрозаводск по расписанию проезжает Шёлтозеро около шести вечера. Все, кроме этого рейса в том направлении больше ничего не ходит. Автобус едет из Каскесручья, вероятно, забитый до отказа.
Решили испытать судьбу, рискнув голосовать. Мы не особо рассчитывали на успех: тухлое дело, машины проезжали очень редко. Только фуры везли огромные куски гранита с карьера. К тому же, голосовала также пара с маленьким ребенком. Сразу было понятно, кого подхватят в случае чего.
Никто не останавливался около получаса. Одна бабушка на пассажирском сиденье даже помахала издевательски ручкой (спасибо и на том, что не показала кукиш).
Но вот одна из груженных гранитом фур остановилась напротив пары с ребенком. Этот факт одновременно и обрадовал (на места в автобусе не будет конкурентов), и огорчил. Только машина отъехала, как на повороте появился компактный Renault. Уже на автомате проголосовали. О чудо! Машина остановилась. Запрыгнули на заднее сиденье.
Водитель попался лихой и молчаливый. Ямы на дороге чувствовались особенно остро. На одной из них подпрыгнула так, что почувствовала, как пятая точка оторвалась от сиденья сантиметров на тридцать, а голова чуть не коснулась потолка. Думаю, Леше с его почти двухметровым ростом было и того хуже. Мимо проплыл остов заброшенного храма, водитель перекрестился. Позже я подумала, что мне стоило бы последовать его примеру.
Показалось, что сосны за окном проносятся как-то чрезмерно резво, и я посмотрела на спидометр. Сто сорок километров в час по бездорожью! Прыжки по ямам (думала только о том, чтоб у этого «гоночного болида» не оторвало на такой скорости колесо), езда по встречке, обгон под запрещающий знак, превышение скорости на девяносто (!) километров в час – короче говоря, как минимум четыре раза наш благодетель нарушил ПДД на лишение прав. Да что там лишение прав: чуть было не доставил нас на тот свет вместо обещанного Петрозаводска.
Добрались (добрались!) с ветерком. Я пообещала себе, что больше никогда в жизни не буду автостопить. Не зря говорится, тише едешь – дальше будешь.
Решили испытать судьбу, рискнув голосовать. Мы не особо рассчитывали на успех: тухлое дело, машины проезжали очень редко. Только фуры везли огромные куски гранита с карьера. К тому же, голосовала также пара с маленьким ребенком. Сразу было понятно, кого подхватят в случае чего.
Никто не останавливался около получаса. Одна бабушка на пассажирском сиденье даже помахала издевательски ручкой (спасибо и на том, что не показала кукиш).
Но вот одна из груженных гранитом фур остановилась напротив пары с ребенком. Этот факт одновременно и обрадовал (на места в автобусе не будет конкурентов), и огорчил. Только машина отъехала, как на повороте появился компактный Renault. Уже на автомате проголосовали. О чудо! Машина остановилась. Запрыгнули на заднее сиденье.
Водитель попался лихой и молчаливый. Ямы на дороге чувствовались особенно остро. На одной из них подпрыгнула так, что почувствовала, как пятая точка оторвалась от сиденья сантиметров на тридцать, а голова чуть не коснулась потолка. Думаю, Леше с его почти двухметровым ростом было и того хуже. Мимо проплыл остов заброшенного храма, водитель перекрестился. Позже я подумала, что мне стоило бы последовать его примеру.
Показалось, что сосны за окном проносятся как-то чрезмерно резво, и я посмотрела на спидометр. Сто сорок километров в час по бездорожью! Прыжки по ямам (думала только о том, чтоб у этого «гоночного болида» не оторвало на такой скорости колесо), езда по встречке, обгон под запрещающий знак, превышение скорости на девяносто (!) километров в час – короче говоря, как минимум четыре раза наш благодетель нарушил ПДД на лишение прав. Да что там лишение прав: чуть было не доставил нас на тот свет вместо обещанного Петрозаводска.
Добрались (добрались!) с ветерком. Я пообещала себе, что больше никогда в жизни не буду автостопить. Не зря говорится, тише едешь – дальше будешь.
 |  |  |
Вечером в Петрозаводске пошел дождь, но до этого мы успели как следует погулять по городу и заглянуть в музеи, храмы и букинисты. Вернулись в гостиницу рано: утром предстояла дальняя поездка в Сортавалу.
Сортавала → Валаам
Поездку на Валаам организовали за нас. Подсчитав все расходы на дорогу и прочие радости жизни, мы поняли, что гораздо проще и выгоднее обратиться к ухоженной мадам (да-да, той, что с аккуратным маникюром и россыпью золота-бриллиантов на шее и в ушах) и купить у нее тур, как это было с экскурсией на Кижи.
К восьми утра нужно было стоять у причала. Оттуда отходил микроавтобус в направлении Сортавалы. Мои утренние кривляния перед зеркалом в попытке сделать ресницы гуще и темнее, а волосы пышнее и кудрявее привели к тому, что мы пришли к месту сбора далеко не первые. В микроавтобусе места выбирать уже не приходилось. Меня определили назад, поближе к багажу, но я решила сопротивляться до последнего, то есть пока моя пятая точка не разместилась с комфортом на сиденье возле водителя.
С этого ракурса Петрозаводск показался мне красивее, чем прежде. Этакий концентрат мелькающих эффектных зданий. Вспоминаю, что еще не сфотографировала должным образом историческое здание вокзала, пытаюсь запечатлеть его и не словить блики от лобового стекла.
Сто щелчков сделаны, а результат плачевный: горизонт поехал, провода закрыли половину шпиля. Что уж говорить о легковушках и дорожных знаках. Они как кляксы, на них не хватит никакого «Фотошопа». Фотография, что о ней ни думай, все же медитативный процесс. Нужно проснуться с рассветом, выбрать безлюдную локацию и заполнить карту памяти сотнями однотипных карточек, чтоб потом на досуге выбрать одну единственную. В путешествиях так не получается. Ты либо турист, либо фотограф. Если совмещать, результат в обоих случаях будет, как говорят французы, comme si comme ça.
К восьми утра нужно было стоять у причала. Оттуда отходил микроавтобус в направлении Сортавалы. Мои утренние кривляния перед зеркалом в попытке сделать ресницы гуще и темнее, а волосы пышнее и кудрявее привели к тому, что мы пришли к месту сбора далеко не первые. В микроавтобусе места выбирать уже не приходилось. Меня определили назад, поближе к багажу, но я решила сопротивляться до последнего, то есть пока моя пятая точка не разместилась с комфортом на сиденье возле водителя.
С этого ракурса Петрозаводск показался мне красивее, чем прежде. Этакий концентрат мелькающих эффектных зданий. Вспоминаю, что еще не сфотографировала должным образом историческое здание вокзала, пытаюсь запечатлеть его и не словить блики от лобового стекла.
Сто щелчков сделаны, а результат плачевный: горизонт поехал, провода закрыли половину шпиля. Что уж говорить о легковушках и дорожных знаках. Они как кляксы, на них не хватит никакого «Фотошопа». Фотография, что о ней ни думай, все же медитативный процесс. Нужно проснуться с рассветом, выбрать безлюдную локацию и заполнить карту памяти сотнями однотипных карточек, чтоб потом на досуге выбрать одну единственную. В путешествиях так не получается. Ты либо турист, либо фотограф. Если совмещать, результат в обоих случаях будет, как говорят французы, comme si comme ça.
Виды за окном проплывают просто потрясающие. Мощные скалы, на которых стройными рядами стоят красавицы-сосны, прозрачные озера, густые цветущие заросли иван-чая.
Половина пути позади, водитель останавливается у большого деревянного дома неподалеку от заправки. Говорит, что там можно поесть настоящие, аутентичные калитки. Идем пробовать. Пожилая карелка очень строго следит за дисциплиной, чуть ли не выгоняет за дверь тех, кто не держит нужную дистанцию или заходит без маски. Ну хоть где-то есть сознательное отношение!
Калитки показались мне суховато-постноватыми. Я бы их несколько модифицировала и увеличила размер раза в два или даже три. И да, с мясом и овощами было бы куда лучше. Жаль, что это были бы уже не карельские калитки, а мои кулинарные эксперименты. Кстати, рецепт калиток вы можете найти в моем телеграм-канале.
Наскоро перекусив, мы вышли на улицу подышать воздухом, осмотреть окрестности. Упитанный котяра – белый с рыжими пятнами – выделывал невообразимые выкрутасы прямо на асфальте. Видимо, уровень счастья от количества съеденной колбасы, которой щедро кормили приезжие, просто зашкаливал.
Едем дальше. Дорога удивительно хороша. Небо и земля, если сравнивать с той, по которой мы накануне ехали из Шёлтозеро. Вдоль трассы даже косят траву. Вот это сервис! Через какое-то время секрет дороги в этом направлении раскрыт: финны должны видеть, что у нас тоже все ок.
Половина пути позади, водитель останавливается у большого деревянного дома неподалеку от заправки. Говорит, что там можно поесть настоящие, аутентичные калитки. Идем пробовать. Пожилая карелка очень строго следит за дисциплиной, чуть ли не выгоняет за дверь тех, кто не держит нужную дистанцию или заходит без маски. Ну хоть где-то есть сознательное отношение!
Калитки показались мне суховато-постноватыми. Я бы их несколько модифицировала и увеличила размер раза в два или даже три. И да, с мясом и овощами было бы куда лучше. Жаль, что это были бы уже не карельские калитки, а мои кулинарные эксперименты. Кстати, рецепт калиток вы можете найти в моем телеграм-канале.
Наскоро перекусив, мы вышли на улицу подышать воздухом, осмотреть окрестности. Упитанный котяра – белый с рыжими пятнами – выделывал невообразимые выкрутасы прямо на асфальте. Видимо, уровень счастья от количества съеденной колбасы, которой щедро кормили приезжие, просто зашкаливал.
Едем дальше. Дорога удивительно хороша. Небо и земля, если сравнивать с той, по которой мы накануне ехали из Шёлтозеро. Вдоль трассы даже косят траву. Вот это сервис! Через какое-то время секрет дороги в этом направлении раскрыт: финны должны видеть, что у нас тоже все ок.
Подъезжаем к Сортавале (Сердоболь) – музею финской архитектуры под открытым небом, красивейшему городу с многовековой историей на побережье Ладожского озера.
В древности карелы строили здесь поселения-крепости, где спасались от набегов шведов. Первые письменные упоминания о городе относятся к концу XV века.
В 1646 году местные купцы получили от шведского короля торговые привилегии, после чего развернули активную деятельность в поселении Сордавалла, которое вскоре получило статус города. Однако здесь постоянно находился театр боевых действий, поэтому город не мог развиваться. Во время Северной войны его разрушили русские, во время русско-шведской войны 1741-1743 – шведы.
Расцвет Сортавалы пришелся на рубеж XIX-XX веков. Большая часть архитектуры этого периода составляет современный облик города. Это невысокие (3-4 этажа) дома в стиле северный модерн и неоклассицизм. Жемчужиной города является деревянная застройка. Небольшой центр города (а это порядка сотни зданий, признанных объектами культурного наследия) можно обойти за час, что нам и предстояло сделать.
В древности карелы строили здесь поселения-крепости, где спасались от набегов шведов. Первые письменные упоминания о городе относятся к концу XV века.
В 1646 году местные купцы получили от шведского короля торговые привилегии, после чего развернули активную деятельность в поселении Сордавалла, которое вскоре получило статус города. Однако здесь постоянно находился театр боевых действий, поэтому город не мог развиваться. Во время Северной войны его разрушили русские, во время русско-шведской войны 1741-1743 – шведы.
Расцвет Сортавалы пришелся на рубеж XIX-XX веков. Большая часть архитектуры этого периода составляет современный облик города. Это невысокие (3-4 этажа) дома в стиле северный модерн и неоклассицизм. Жемчужиной города является деревянная застройка. Небольшой центр города (а это порядка сотни зданий, признанных объектами культурного наследия) можно обойти за час, что нам и предстояло сделать.
Микроавтобус остановился возле речного вокзала. Нас проинструктировали, что через час нужно подойти к причалу, чтобы организованно пройти посадку на судно до острова Валаама. Я вооружаюсь фотоаппаратом, прицеливаюсь в ближайшее здание, делаю несколько щелчков и настраиваю экспозицию. К туристической пробежке готова.
Центр и правда крошечный, но очень своеобразный. Здания выдержаны в одном духе, но все уникальны – копипастой от застройщика без фантазии и не пахнет.
За это короткое время мы увидели все запланированные к просмотру здания. Репортаж снимала практически на бегу: кстати, это отлично прокачивает фотограферские скиллы!
Центр и правда крошечный, но очень своеобразный. Здания выдержаны в одном духе, но все уникальны – копипастой от застройщика без фантазии и не пахнет.
За это короткое время мы увидели все запланированные к просмотру здания. Репортаж снимала практически на бегу: кстати, это отлично прокачивает фотограферские скиллы!
 |  |  |  |
К назначенному времени подходим к месту встречи. Людей тьма. Находим своего водителя, он раздает нам бейджи. Это и посадочный талон на «Комету», и выходной билет на все экскурсии, и гарантия того, что на острове не оставят голодным. Надежно закрепляю эту важную штуку у себя на груди. Народ все прибывает.
Интересно вот что. Если турист хочет просто доехать до Валаама без экскурсионной группы, у него вряд ли что-то выйдет. Да, есть вероятность договориться с капитаном корабля, но она невелика. Я узнала, что человек тридцать пытались вручить капитану деньги, чтоб их взяли с собой на остров. Но бизнес есть бизнес. Сначала отстегни деньгу ухоженным тетенькам, продающим туры, потом получи вожделенное место в «Комете» образца 1991 года. Без организованной экскурсии на Валаам, как и в другую точку Ладожского или Онежского озера, попасть будет практически невозможно.
Интересно вот что. Если турист хочет просто доехать до Валаама без экскурсионной группы, у него вряд ли что-то выйдет. Да, есть вероятность договориться с капитаном корабля, но она невелика. Я узнала, что человек тридцать пытались вручить капитану деньги, чтоб их взяли с собой на остров. Но бизнес есть бизнес. Сначала отстегни деньгу ухоженным тетенькам, продающим туры, потом получи вожделенное место в «Комете» образца 1991 года. Без организованной экскурсии на Валаам, как и в другую точку Ладожского или Онежского озера, попасть будет практически невозможно.
Судно задерживалось. Человек двести дышали друг другу в затылки. Кто-то кашлял, кто-то толкался. Через какое-то время урча и разгоняя воду пришвартовалась «Комета». Первые ряды пошли на штурм. Они показывали бейджики своих турфирм матросам и проходили на борт. Настала и моя очередь демонстрировать ламинированную бумажку.
Ладожское озеро напоминает море, причем не только внешне. Сильные волны, немалая глубина (в некоторых местах до 260 метров!), непредсказуемая погода вынуждают капитанов судов проходить переподготовку, чтобы управлять кораблем в практически морских условиях.
Добрались быстро. Проплыли мимо мелких островов с одинокими тонкими соснами и массивными валунами, о которые бились неукротимые волны, вошли в бухту. Погоду можно было бы назвать чудесной, если бы не шквалистый ветер.
На берегу нас ждал экскурсовод. Очень одухотворенная женщина, филолог по образованию, редактор местного издания. Она начала с того, что рассказала о самом острове и истории монашества на нем.
Валаамский архипелаг состоит примерно из пятидесяти островов. Они имеют вулканическое происхождение и находятся на стыке двух тектонических плит. Раньше обитатели острова пугались странных звуков, напоминающих пушечные выстрелы или гул удаляющегося поезда. Исследователи выяснили, что это происходит из-за кипения воды на глубине озера. И да, землетрясения на Валааме не редкость. Последнее было магнитудой 4 балла.
Скалы здесь из габбро-диабаза – крайне редкого камня, который (как и малиновый кварцит) больше нигде в мире не добывается. Эти же скалы, по словам экскурсовода, способны менять потоки воздуха, из-за чего погода на острове может существенно отличаться от погоды на материке. Температура воздуха на Валааме в течение десяти минут может поменяться с +30° до +10°.
Слой почвы на острове крайне тонкий, порядка 20 сантиметров. Деревья растут в весьма сложных условиях, однако необычный камень питает корни необходимыми микроэлементами. Одна часть острова пологая, а другая скалистая из-за того, что давным-давно вдоль острова прошелся ледник (сглаженные им камни называют бараньими лбами).
Мы гуляли в яблоневом саду, слушали крайне интересное повествование экскурсовода об истории монастыря, его уставе, настоятелях, тринадцати скитах, о визитах Александра I и Александра II, о том, как состоятельные семейства отдавали своих сыновей на перевоспитание, о финских военных, которые служили на острове в 1920-1930-х годах. Если все это описывать подробно, мой очерк превратится в книгу. Да и спойлеры, я уверена, вам не нужны.
К концу экскурсии мы побывали на концерте светского вокального ансамбля монастыря (пели a capella, очень чисто выстраивая вертикаль аккорда) и пообедали в трапезной. За обещанные щи, рис, рыбу и компот пришлось побороться – на такое количество людей просто не хватало порций.
Ладожское озеро напоминает море, причем не только внешне. Сильные волны, немалая глубина (в некоторых местах до 260 метров!), непредсказуемая погода вынуждают капитанов судов проходить переподготовку, чтобы управлять кораблем в практически морских условиях.
Добрались быстро. Проплыли мимо мелких островов с одинокими тонкими соснами и массивными валунами, о которые бились неукротимые волны, вошли в бухту. Погоду можно было бы назвать чудесной, если бы не шквалистый ветер.
На берегу нас ждал экскурсовод. Очень одухотворенная женщина, филолог по образованию, редактор местного издания. Она начала с того, что рассказала о самом острове и истории монашества на нем.
Валаамский архипелаг состоит примерно из пятидесяти островов. Они имеют вулканическое происхождение и находятся на стыке двух тектонических плит. Раньше обитатели острова пугались странных звуков, напоминающих пушечные выстрелы или гул удаляющегося поезда. Исследователи выяснили, что это происходит из-за кипения воды на глубине озера. И да, землетрясения на Валааме не редкость. Последнее было магнитудой 4 балла.
Скалы здесь из габбро-диабаза – крайне редкого камня, который (как и малиновый кварцит) больше нигде в мире не добывается. Эти же скалы, по словам экскурсовода, способны менять потоки воздуха, из-за чего погода на острове может существенно отличаться от погоды на материке. Температура воздуха на Валааме в течение десяти минут может поменяться с +30° до +10°.
Слой почвы на острове крайне тонкий, порядка 20 сантиметров. Деревья растут в весьма сложных условиях, однако необычный камень питает корни необходимыми микроэлементами. Одна часть острова пологая, а другая скалистая из-за того, что давным-давно вдоль острова прошелся ледник (сглаженные им камни называют бараньими лбами).
Мы гуляли в яблоневом саду, слушали крайне интересное повествование экскурсовода об истории монастыря, его уставе, настоятелях, тринадцати скитах, о визитах Александра I и Александра II, о том, как состоятельные семейства отдавали своих сыновей на перевоспитание, о финских военных, которые служили на острове в 1920-1930-х годах. Если все это описывать подробно, мой очерк превратится в книгу. Да и спойлеры, я уверена, вам не нужны.
К концу экскурсии мы побывали на концерте светского вокального ансамбля монастыря (пели a capella, очень чисто выстраивая вертикаль аккорда) и пообедали в трапезной. За обещанные щи, рис, рыбу и компот пришлось побороться – на такое количество людей просто не хватало порций.
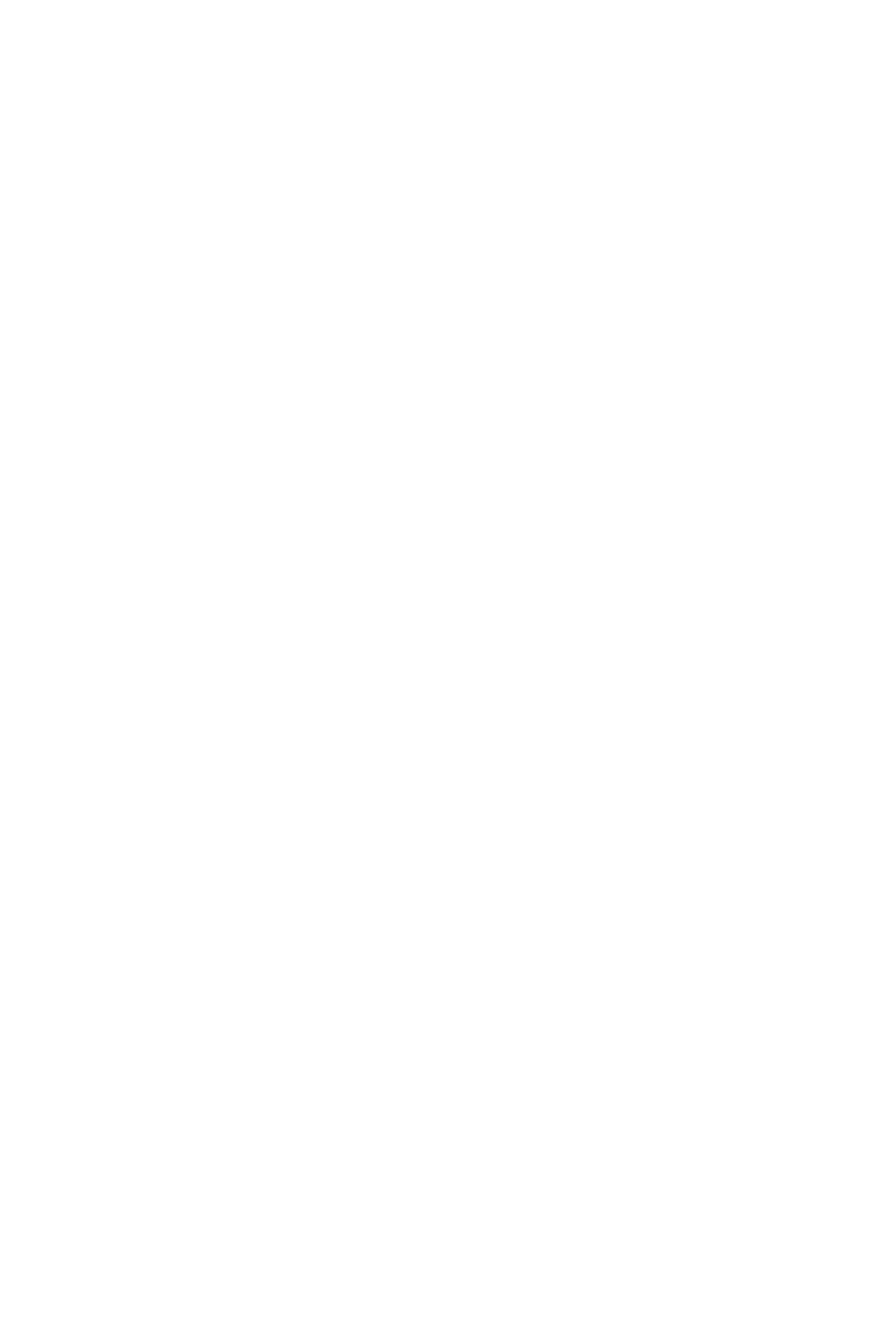 | 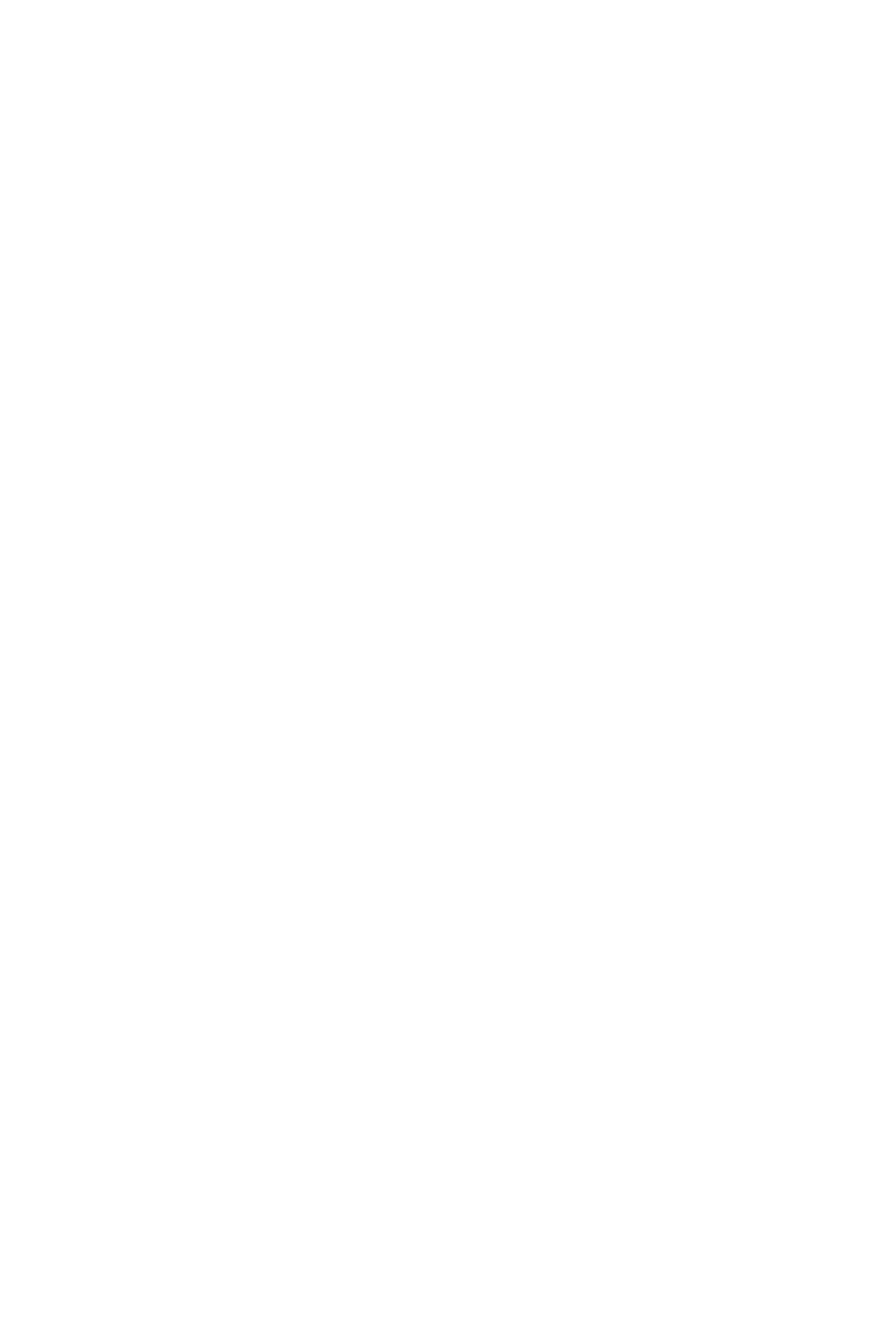 | 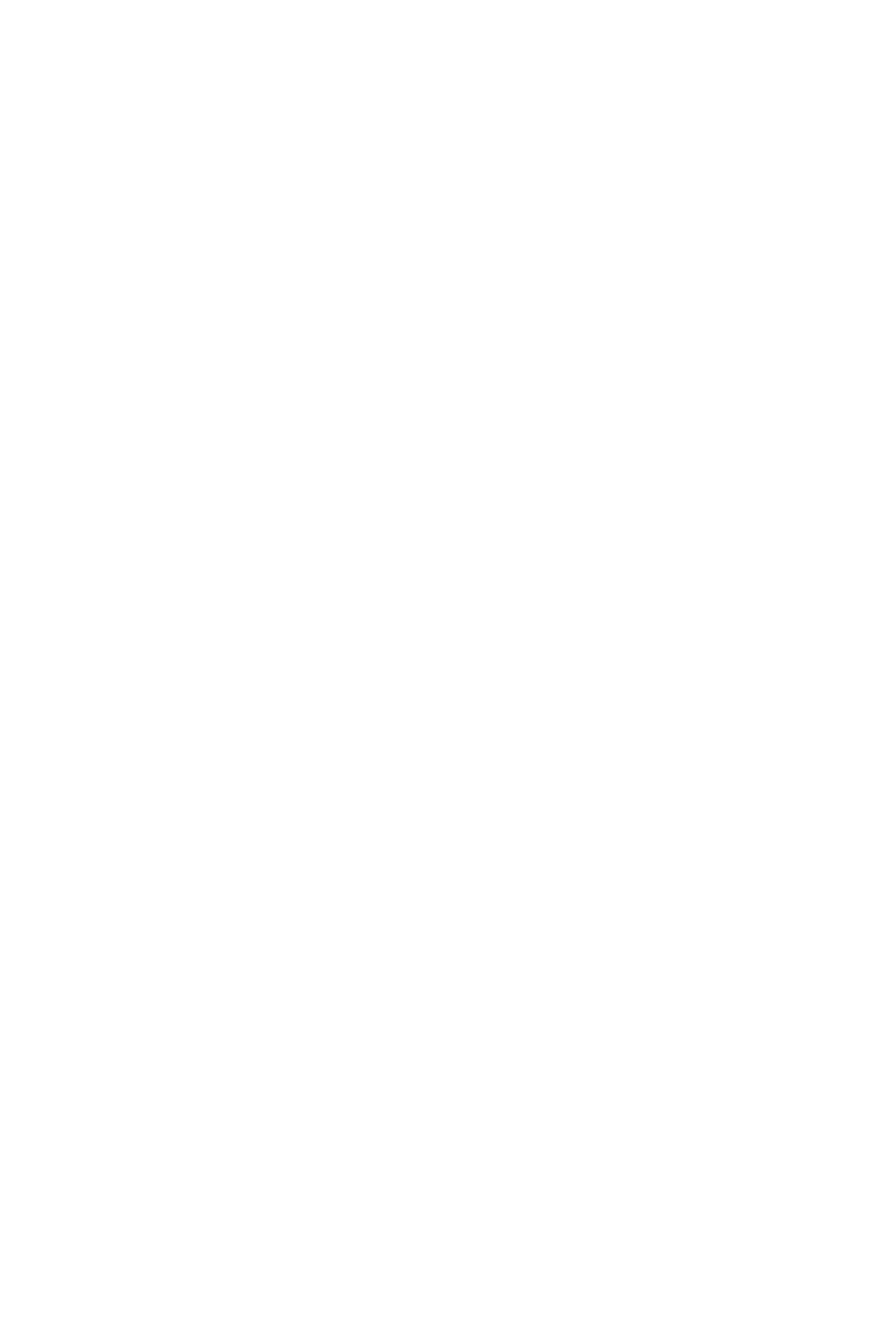 | 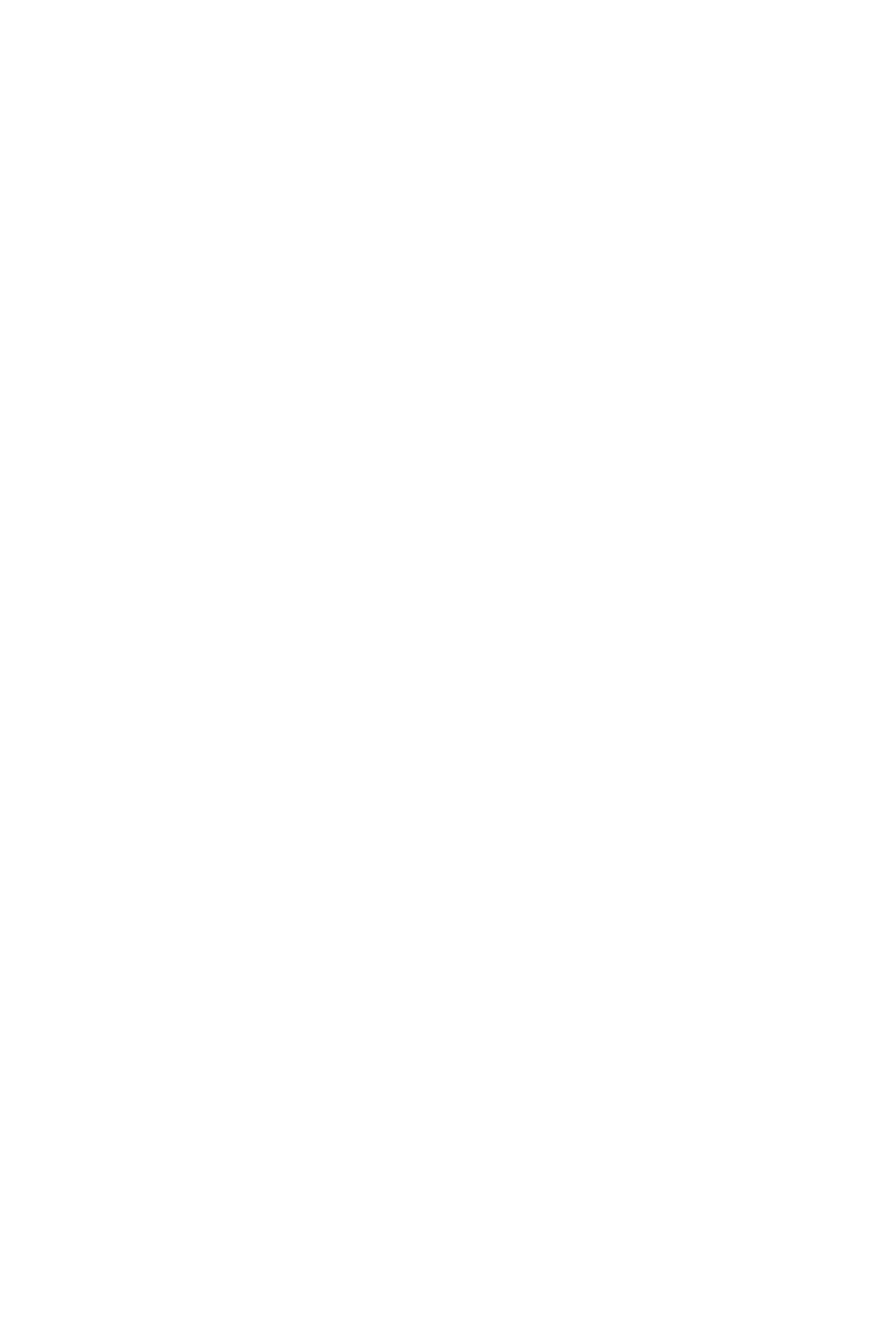 |
Потом нас снова посадили на «Комету» и перебросили на другую часть острова. Там послушали оставшуюся часть экскурсии, побывали в скитах. То ли красота этих мест, то ли одухотворенность (если, конечно, можно говорить об одухотворенности мест) вызвали во мне какое-то живое чувство: одновременно и спокойствие, и необъяснимое желание двигаться вперед.
Рассказывали также о флоре и фауне острова. Дубы не растут на скалах, а пихты не выдерживают перепадов температур – этих деревьев здесь нет совсем. Сосны же имеют рыхлую древесину и совершенно не подходят для строительства.
Непуганые зайцы гоняют лисиц. Чайки-хохотуны передразнивают местных котов. Куницы едят белок, белки – еловые шишки. По льду зимой на остров приходят волки и даже рыси. Ежиков нет, потому что они не могут сделать норки в таком тонком слое почвы. Как следствие, змей на Валааме очень много. Лоси тоже водятся, но их популяцию приходится контролировать (то есть отстреливать), чтобы они не съели весь лес.
Природа невероятно красивая. Такого я не видела нигде. Чистейшая вода, скалы, островочки, живописные сосны. А воздух пахнет можжевельником. Хорошо на Валааме!
Кстати, о живописных пейзажах. Сюда приезжали писать картины Шишкин, Куинджи, Рерих. Удивительно, но стиль письма мастеров изменился после посещения острова. Посмотрите картины этого периода. Без подсказки и не угадаешь, кто писал пейзаж.
Рассказывали также о флоре и фауне острова. Дубы не растут на скалах, а пихты не выдерживают перепадов температур – этих деревьев здесь нет совсем. Сосны же имеют рыхлую древесину и совершенно не подходят для строительства.
Непуганые зайцы гоняют лисиц. Чайки-хохотуны передразнивают местных котов. Куницы едят белок, белки – еловые шишки. По льду зимой на остров приходят волки и даже рыси. Ежиков нет, потому что они не могут сделать норки в таком тонком слое почвы. Как следствие, змей на Валааме очень много. Лоси тоже водятся, но их популяцию приходится контролировать (то есть отстреливать), чтобы они не съели весь лес.
Природа невероятно красивая. Такого я не видела нигде. Чистейшая вода, скалы, островочки, живописные сосны. А воздух пахнет можжевельником. Хорошо на Валааме!
Кстати, о живописных пейзажах. Сюда приезжали писать картины Шишкин, Куинджи, Рерих. Удивительно, но стиль письма мастеров изменился после посещения острова. Посмотрите картины этого периода. Без подсказки и не угадаешь, кто писал пейзаж.
«Комета» забрала нас с опозданием, поэтому времени насладиться красотой острова было достаточно. В Сортавале ждала машина до Петрозаводска. На обратном пути мы долго и обстоятельно разговаривали с водителем. Он рассказывал о том, как молодежь учит в школах финский язык, чтоб затем поступать в вузы Финляндии, как он сам ездил к финнам за качественными и дешевыми товарами, смеялся над нашими приключениями в злополучной квартире с жуками. Кстати, со слов водителя, жуки в квартирах Карелии скорее редкость, чем правило. Так что в случае с той злополучной квартирой мы были совершенно правы.
Короче говоря, день прошел как надо и закончится на позитивной ноте, что, согласитесь, тоже немаловажно. В Петрозаводск мы вернулись глубокой ночью. Добродушный водитель подбросил нас прямо ко входу в «Лососинскую».
Короче говоря, день прошел как надо и закончится на позитивной ноте, что, согласитесь, тоже немаловажно. В Петрозаводск мы вернулись глубокой ночью. Добродушный водитель подбросил нас прямо ко входу в «Лососинскую».
Сяпся → «Три медведя»
День начинается с хот-дога на заправке. Сегодня я еду смотреть диких животных, которые водятся в карельском крае. Зоокомплекс «Три медведя» известен тем, что там в полувольных условиях живут медведи, рыси, волки, лоси, олени, совы, олени, леопарды и многие другие звери, которые пострадали от плохого обращения или нападения в дикой природе. Это не зоопарк в привычном смысле слова, а своеобразный приют, где хорошие люди помогают тем животным, которые больше не могут жить на воле.
Добираться до зоокомплекса нам предстояло на такси. Короткий звонок, ответ диспетчера, что машина будет через десять минут, допитый кофе и съеденный хот-дог – мы вышли из здания автозаправки, чтобы следить за синей «Ладой», которая вот-вот должна была за нами приехать.
На повороте появляется машина, точь-в-точь соответствующая описанию диспетчера. Однако она едет не к выходу из здания, а становится в очередь из машин для заправки топлива. Я щурюсь, пытаясь разглядеть номер авто.
– Леша, за рулем афроамериканец!
Тут открывается дверца, и из машины выходит водитель, который смотрит в нашем направлении и машет рукой. Как впоследствии показал сберовский перевод, нашего водителя водителя звали Чарльз.
Чарльз вел машину очень неуверенно (зато соблюдая все знаки с особой педантичностью) и постоянно спрашивал, в том ли направлении мы едем. Пришлось открывать карты и следить за тем, чтоб не уехать в какую-нибудь глушь. Интересно было узнать, как Чарльз попал в Петрозаводск, но расспрашивать его было неудобно. Рискнула предположить, что это студент, который подрабатывает таксистом. Судя по музыкальному ряду и перепиской с некой Babe Чарльз был англоязычным. Это мало утешало, поскольку на каждом повороте приходилось говорить, в какую полосу становиться и куда ехать дальше.
Вот мы сворачиваем по указателю с главной и едем к деревне Сяпся. Асфальт сменяется щебенкой, массивные сосны – аккуратными домиками, за которыми блестит гладь огромного Сямозера. Я замечталась, рассматривая красоты карельской глубинки, Чарльз, видимо, тоже, поскольку он проехал поворот на зоокомплекс. Пришлось возвращаться.
Добираться до зоокомплекса нам предстояло на такси. Короткий звонок, ответ диспетчера, что машина будет через десять минут, допитый кофе и съеденный хот-дог – мы вышли из здания автозаправки, чтобы следить за синей «Ладой», которая вот-вот должна была за нами приехать.
На повороте появляется машина, точь-в-точь соответствующая описанию диспетчера. Однако она едет не к выходу из здания, а становится в очередь из машин для заправки топлива. Я щурюсь, пытаясь разглядеть номер авто.
– Леша, за рулем афроамериканец!
Тут открывается дверца, и из машины выходит водитель, который смотрит в нашем направлении и машет рукой. Как впоследствии показал сберовский перевод, нашего водителя водителя звали Чарльз.
Чарльз вел машину очень неуверенно (зато соблюдая все знаки с особой педантичностью) и постоянно спрашивал, в том ли направлении мы едем. Пришлось открывать карты и следить за тем, чтоб не уехать в какую-нибудь глушь. Интересно было узнать, как Чарльз попал в Петрозаводск, но расспрашивать его было неудобно. Рискнула предположить, что это студент, который подрабатывает таксистом. Судя по музыкальному ряду и перепиской с некой Babe Чарльз был англоязычным. Это мало утешало, поскольку на каждом повороте приходилось говорить, в какую полосу становиться и куда ехать дальше.
Вот мы сворачиваем по указателю с главной и едем к деревне Сяпся. Асфальт сменяется щебенкой, массивные сосны – аккуратными домиками, за которыми блестит гладь огромного Сямозера. Я замечталась, рассматривая красоты карельской глубинки, Чарльз, видимо, тоже, поскольку он проехал поворот на зоокомплекс. Пришлось возвращаться.
Чарльз паркуется и мы рассчитываемся. Он спрашивает, нужна ли нам машина назад и сколько времени мы здесь проведем. Отвечаем расплывчато и идем к кассе. Получаем заветный билет от самой владелицы зоокомплекса. Она жалуется, что государство не помогает такой деятельности, наоборот, всячески препятствует. С каждым годом аренда земли дорожает. Через несколько лет придется участвовать в аукционе, для которого нужно убрать все вольеры и рассадить молодые сосны. Хозяевам зоокомплекса запретили проводить горячую воду и вообще как-то окультуривать пространство. Вся затея с помощью животным держится на личной инициативе всего одной супружеской пары и их личных средствах.
О медведях зоокомплекса
Кормим лосей
Самостоятельно гулять по зоокомплексу нельзя. До начала прогулки у нас есть в запасе четверть часа. Идем к озеру. Виды захватывают дух. Озеро настолько прозрачное, будто кто-то нарочно вылил гигантскую бутыль чистейшей воды. На севере могучие сосны цепляются корнями за гладкие скалы, а над ними висят тяжелые облака-бурдюки. На северо-востоке небо совсем потемнело, едва различимые косые полосы подтверждают мою догадку: дождь будет совсем скоро. Жадно вдыхаю воздух. Карелия – место, где хочется слиться с природой.
Пора идти к животным. Группа собирается довольно внушительная, много детей. Хозяйка зоокомплекса объясняет, что ручки в клетку к медведям не просовывать, впереди ее не бежать и зверей громкими криками не пугать.
Первым мы видим беркута. Его выходили с подбитым крылом. После выздоровления выпустили на волю. Только птице настолько понравилось нежное куриное мясо, что она перестала охотиться на более серьезную добычу, начала воровать куриц у людей. Пришлось оставить беркута в неволе.
Волки выглядели совсем как собаки. Если бы я увидела такого на поводке, вряд ли бы догадалась, что это опасный хищник. Одна старая волчица лизала женщине руки и радостно виляла хвостом. Молодой волк, которого некая девушка купила в Интернете в качестве домашнего питомца, лежал в вольере с поджатым хвостом и с ужасом смотрел на людей. Еще один волк начал рычать и бросаться на прутья решетки, когда увидел упитанного мужчину: над животным издевался человек похожего телосложения, навсегда травмировав психику волка.
Дальневосточный леопард Муся когда-то выступал в цирке. Там Мусе полностью вырвали когти. Мишки, которых в зоокомплексе порядка десятка, тоже когда-то выступали в цирке, забавляя людей. Или из-за характера, или в силу возраста от них избавлялись. Так несчастные попадали в зоокомплекс. Одного из них, правда, привезли сюда после того, как он получил пулю в огороде у местных жителей – голодал. От всех этих историй на глаза наворачивались слезы. Жалко было всех. Я пишу этот абзац и вижу огромные глаза лосят, мать которых сбили на дороге, и совы, на которую в детстве напали вороны и повредили крыло.
Пора идти к животным. Группа собирается довольно внушительная, много детей. Хозяйка зоокомплекса объясняет, что ручки в клетку к медведям не просовывать, впереди ее не бежать и зверей громкими криками не пугать.
Первым мы видим беркута. Его выходили с подбитым крылом. После выздоровления выпустили на волю. Только птице настолько понравилось нежное куриное мясо, что она перестала охотиться на более серьезную добычу, начала воровать куриц у людей. Пришлось оставить беркута в неволе.
Волки выглядели совсем как собаки. Если бы я увидела такого на поводке, вряд ли бы догадалась, что это опасный хищник. Одна старая волчица лизала женщине руки и радостно виляла хвостом. Молодой волк, которого некая девушка купила в Интернете в качестве домашнего питомца, лежал в вольере с поджатым хвостом и с ужасом смотрел на людей. Еще один волк начал рычать и бросаться на прутья решетки, когда увидел упитанного мужчину: над животным издевался человек похожего телосложения, навсегда травмировав психику волка.
Дальневосточный леопард Муся когда-то выступал в цирке. Там Мусе полностью вырвали когти. Мишки, которых в зоокомплексе порядка десятка, тоже когда-то выступали в цирке, забавляя людей. Или из-за характера, или в силу возраста от них избавлялись. Так несчастные попадали в зоокомплекс. Одного из них, правда, привезли сюда после того, как он получил пулю в огороде у местных жителей – голодал. От всех этих историй на глаза наворачивались слезы. Жалко было всех. Я пишу этот абзац и вижу огромные глаза лосят, мать которых сбили на дороге, и совы, на которую в детстве напали вороны и повредили крыло.
Когда мы вышли из зоокомплекса, Чарльз всеми силами показывал нетерпение. Мы вздохнули и сели в машину, готовые к неожиданностям. Хорошо еще, что дорога была не такая, как из Шёлтозеро.
Мы зачем-то остановились перекрестке. Чарльз вышел из машины, чтобы посмотреть на знак, в какой стороне находится Петрозаводск. До города ехали по нашему навигатору. И при всем этом Чарльз оказался тем еще коммерсантом: он решил подзаработать денег и потребовал бонусов за ожидание возле зоокомплекса. Пфф! Вот это поворот. Как и некогда палестинский водитель, Чарльз получил ответ, что уговор дороже денег. А он и так сэкономил бензин и средства на обратный путь. И не заблудился в трех соснах опять-таки благодаря нам.
Мы зачем-то остановились перекрестке. Чарльз вышел из машины, чтобы посмотреть на знак, в какой стороне находится Петрозаводск. До города ехали по нашему навигатору. И при всем этом Чарльз оказался тем еще коммерсантом: он решил подзаработать денег и потребовал бонусов за ожидание возле зоокомплекса. Пфф! Вот это поворот. Как и некогда палестинский водитель, Чарльз получил ответ, что уговор дороже денег. А он и так сэкономил бензин и средства на обратный путь. И не заблудился в трех соснах опять-таки благодаря нам.
Сколько
еды нужно животным зоокомплекса?
Чтобы помочь животным, свяжитесь с владельцами зоокомплекса.







17 кг/день
35 кг/день
7 кг/день
8 кг/день
6 кг/день
5 кг/день
еды нужно животным зоокомплекса?
Сколько
Медвежьегорск → Беломорканал и Сандармох
В билете на автобус капсом выделено: «МЯГКИЙ». Гадая, что бы это значило и что представляет из себя противоположность мягкого, мы прошли через металлодетектор уже такого родного вокзала. Наглые голуби не требовали еды. Вероятно, потому что было холодно и мы, уподобившись пернатым, безостановочно расхаживали по перрону.
Автобус (тот который мягкий) оказался вполне обычным. Правда, туристическим, а не «Пазиком». Он вез нас на север Карелии, в Медвежьегорск. Возможно, название этого городка вам ни о чем не говорит. Однако вы уже видели одну из его достопримечательностей. В Медвежьегорске снимался фильм «Любовь и голуби». Дом Кузякиных не сохранился, но хозяин нового коттеджа уже построил голубятню и хочет открыть музей.
А если всерьез говорить о музеях, то тут есть достойная краеведческая экспозиция. Проблема одна – вагон и телега негативных отзывов. Привожу один из них:
Автобус (тот который мягкий) оказался вполне обычным. Правда, туристическим, а не «Пазиком». Он вез нас на север Карелии, в Медвежьегорск. Возможно, название этого городка вам ни о чем не говорит. Однако вы уже видели одну из его достопримечательностей. В Медвежьегорске снимался фильм «Любовь и голуби». Дом Кузякиных не сохранился, но хозяин нового коттеджа уже построил голубятню и хочет открыть музей.
А если всерьез говорить о музеях, то тут есть достойная краеведческая экспозиция. Проблема одна – вагон и телега негативных отзывов. Привожу один из них:
«Музей совершенно не понравился. Во-первых, потому что большую часть экспонатов составляют копии фотографий и вырезок из газет. И не 85-летней давности, а нынешних АиФ, например. Если речь идёт о Осударевой дороге, лежит вырезка из "Аргументов..." о том, что было хорошего и плохого в правление Петра I. Позор, а не экспозиция. Во-вторых, экскурсовод. Мы задали совершенно простой вопрос: "Каким образом Петр заставлял/просил/приглашал людей на строительство Осударевой дороги?". Вместо ответа мы услышали шквал обвинений в свой адрес, что мы вроде как хотим завалить экскурсовода сложными вопросами. Хотя обычное "Я не знаю ответа на этот вопрос" нас бы вполне устроило. Видимо, у экскурсовода (пожилой женщины, бывшего учителя школы) скорее всего есть комплекс. Она боится, что не сможет ответить на вопросы посетителей, так как не все знает, поэтому воспринимает их в штыки. Написать отзыв в книгу нам она тоже не дала, выгнав из музея и захлопнув дверь. За такое нами даже были заплачены деньги: 75 р. Как потом выяснилось, мы у этого горе-экскурсовода не первые. В этом музее частенько возникают конфликты. Думаю, на одной почве: посетители задают вопросы. Не рекомендуем посещать этот музей».
Выходим на привокзальной площади. Историческое место! В 1916 году здесь среди зелени лесов одиноко стояло лишь деревянное здание вокзала. Будущий город возник во время строительства Мурманской железной дороги в годы Первой мировой. Станцию назвали Медвежья Гора по ближайшей (в 30 километрах) деревне. Возле станции жили строители и железнодорожники. В 1938 году поселок получил статус города и обзавелся нынешним названием. Но! Станция по-прежнему называется Медвежьей Горой, так что если захотите взять билет из Питера или Мурманска, не смущайте кассиров медвежьегорсками – таких названий просто нет в списках направлений РЖД.
И да, уехать отсюда не так уж и просто. Поезда ходят редко, в Питер и Мурманск (пардон, другие опции недоступны) приезжают ночью. Кстати, если вас одолеет безумная идея взять такси до Петрозаводска, будьте готовы к внушительной сумме. Самый простой вариант для тех, у кого нет автомобиля – пресловутый мягкий автобус. Проблема только в том, что автобусное сообщение отвратительно, расписание сделано не для людей. Посмотрите, чего только стоит здание автовокзала (на фото ниже). Хочется убежать отсюда подальше и никогда не возвращаться.
Кстати, с относительно давних времен здесь ничего не поменялось. Вот какую инструкцию давал Иван Солоневича (один из немногих, кто смог сбежать из сталинских лагерей за границу) в своих мемуарах:
И да, уехать отсюда не так уж и просто. Поезда ходят редко, в Питер и Мурманск (пардон, другие опции недоступны) приезжают ночью. Кстати, если вас одолеет безумная идея взять такси до Петрозаводска, будьте готовы к внушительной сумме. Самый простой вариант для тех, у кого нет автомобиля – пресловутый мягкий автобус. Проблема только в том, что автобусное сообщение отвратительно, расписание сделано не для людей. Посмотрите, чего только стоит здание автовокзала (на фото ниже). Хочется убежать отсюда подальше и никогда не возвращаться.
Кстати, с относительно давних времен здесь ничего не поменялось. Вот какую инструкцию давал Иван Солоневича (один из немногих, кто смог сбежать из сталинских лагерей за границу) в своих мемуарах:
«От Медгоры до Повенца нужно ехать на автобусе, от Повенца до Водораздела – на моторке по знаменитому Беломорско-Балтийскому каналу. На автобус сажают в первую очередь командировочных ББК, потом остальных командировочных чином повыше; командировочные чином пониже могут и подождать. Которое вольное население может топать, как ему угодно».
Сколько громких слов о развитии отечественного туризма сказано, и как мало сделано! Только представьте себе: приехали вы, значит, в Египет и захотели посмотреть пирамиды. И тут вам говорят, что сначала нужно проехать на автобусе, потом переночевать в пустыне, а затем остаток пути добираться на верблюдах. Можете себе такое представить? С трудом, не правда ли. У туриста и так хватает головной боли. У него есть деньги (даже у бедного туриста есть деньги) и он хочет увидеть достопримечательность. Значит, должен получить желаемое и остаться довольным.
Путешествия по России напрочь отрицают эту логику. Чтобы добраться до жемчужин, которые известны любому мало-мальски образованному человеку нашей планеты, приходится проходить такие квесты, что, будь я иностранцем, вернулась бы на родину поседевшей.
Вернемся к насущным проблемам. Кассирша гнусавым голосом говорит, что последние билеты на автобус остались только на три часа. Делать нечего, приходится брать. Времени катастрофически не хватает.
Путешествия по России напрочь отрицают эту логику. Чтобы добраться до жемчужин, которые известны любому мало-мальски образованному человеку нашей планеты, приходится проходить такие квесты, что, будь я иностранцем, вернулась бы на родину поседевшей.
Вернемся к насущным проблемам. Кассирша гнусавым голосом говорит, что последние билеты на автобус остались только на три часа. Делать нечего, приходится брать. Времени катастрофически не хватает.
Нужно такси. Иначе до Беломорканала не добраться. Кто там говорил, что мысли материальны? Желтая машина останавливается возле вокзала. Водитель курит, и не похоже, что он кого-то ждет. Леша отправляется выяснять этот момент. Увы и ах: таксист занят.
Один звонок решает проблему: заказываем машину и ждем. Есть время осмотреться. То ли из-за погоды, то ли от недосыпа все кажется серым и унылым. Все, кроме здания вокзала. В нем чувствуется дыхание минувшей эпохи. Внешне оно чем-то напоминает протестантскую церквушку. И кажется, что среди мрачных хрущевок только в этом деревянном здании теплится жизнь.
Вскоре подъезжает таксист. Он везет нас через весь город – ничего особенного: хрущевки и тополя со срезанными верхушками. Меня всегда поражал алогизм: после Великой Отечественной экономика была на дне, и в то же время каким-то образом отстраивали заново целые города такой огромной страны. Что же сегодня мешает просто поддерживать их в нормальном состоянии? Отстроить заново или следить за состоянием застройки – это ведь абсолютно разные бюджеты.
Вот слева проплыл памятник Кирову – творение Матвея Манизера, копия скульптуры возле Музыкального театра в Петрозаводске. Едем дальше. Приходит очередь покосившихся домиков, вокруг которых – сад из борщевика. Да такой пышный и высокий, что цветки-зонтики дорастают до крыши. Два с половиной метра, а то и все три. Не знаю, как эта дрянь выживает на севере. Похоже, ей не страшны никакие трудности.
Останавливаемся. Таксист предупреждает, что дальше режимный объект. Погода благоволит: сквозь низкие, редкие облака ярко светит солнце. Идем к мостику. Вот он, пресловутый Беломоро-Балтийский канал! Его строили в 1931-1933 годах без применения какой-либо техники. Узники лагерей копали его кирками и лопатами. К слову, знаменитые на весь Союз папиросы не имеют с этим местом ничего общего, кроме названия (их делали в Ленинграде).
В пропагандистской кампании по раскручиванию Беломорканала, в которой участвовали видные члены Союза писателей во главе с «великим гуманистом» Максимом Горьким, говорилось о невероятной роли такой стройки в нравственном перевоспитании «уголовников». Правда, результатом власть осталась не очень довольна. Говорят, Сталин охарактеризовал Беломорканал как «мелкий и узкий».
Во время наступления финнов в 1941 году шлюзы канала были взорваны, и вода полностью затопила Повенец. Зато финны не смогли успешно форсировать канал. Фронт здесь стоял до июня 1944 года.
Один звонок решает проблему: заказываем машину и ждем. Есть время осмотреться. То ли из-за погоды, то ли от недосыпа все кажется серым и унылым. Все, кроме здания вокзала. В нем чувствуется дыхание минувшей эпохи. Внешне оно чем-то напоминает протестантскую церквушку. И кажется, что среди мрачных хрущевок только в этом деревянном здании теплится жизнь.
Вскоре подъезжает таксист. Он везет нас через весь город – ничего особенного: хрущевки и тополя со срезанными верхушками. Меня всегда поражал алогизм: после Великой Отечественной экономика была на дне, и в то же время каким-то образом отстраивали заново целые города такой огромной страны. Что же сегодня мешает просто поддерживать их в нормальном состоянии? Отстроить заново или следить за состоянием застройки – это ведь абсолютно разные бюджеты.
Вот слева проплыл памятник Кирову – творение Матвея Манизера, копия скульптуры возле Музыкального театра в Петрозаводске. Едем дальше. Приходит очередь покосившихся домиков, вокруг которых – сад из борщевика. Да такой пышный и высокий, что цветки-зонтики дорастают до крыши. Два с половиной метра, а то и все три. Не знаю, как эта дрянь выживает на севере. Похоже, ей не страшны никакие трудности.
Останавливаемся. Таксист предупреждает, что дальше режимный объект. Погода благоволит: сквозь низкие, редкие облака ярко светит солнце. Идем к мостику. Вот он, пресловутый Беломоро-Балтийский канал! Его строили в 1931-1933 годах без применения какой-либо техники. Узники лагерей копали его кирками и лопатами. К слову, знаменитые на весь Союз папиросы не имеют с этим местом ничего общего, кроме названия (их делали в Ленинграде).
В пропагандистской кампании по раскручиванию Беломорканала, в которой участвовали видные члены Союза писателей во главе с «великим гуманистом» Максимом Горьким, говорилось о невероятной роли такой стройки в нравственном перевоспитании «уголовников». Правда, результатом власть осталась не очень довольна. Говорят, Сталин охарактеризовал Беломорканал как «мелкий и узкий».
Во время наступления финнов в 1941 году шлюзы канала были взорваны, и вода полностью затопила Повенец. Зато финны не смогли успешно форсировать канал. Фронт здесь стоял до июня 1944 года.
Прогулка и осмотр видов на канал заняли не больше пятнадцати минут. Мы вернулись в машину и поехали в обратном направлении. Через какое-то время свернули с главной дороги – хотели посмотреть Сандармох.
Урочище Сандармох – место расстрела заключенных Соловецкого лагеря, Белбалтлага и жителей Карелии в 1937-1938 годах. Это одно из самых больших захоронений жертв массовых репрессий в СССР. Здесь покоятся более девяти тысяч жертв сталинского террора.
Обреченных на смерть ставили на колени и стреляли в лоб, а не в затылок, чтоб те не прыгнули в яму, пытаясь спастись. В Сандармохе можно увидеть памятники представителям разных национальностей: русским, евреям, полякам, немцам и другим представителям более полусотни национальностей.
Нередко приходили разнарядки из Центра, что нужно очистить лагеря от враждебного антисоветского элемента. Чтобы выполнить план, сотрудники НКВД отбирали уже наказанных людей и приговаривали их к расстрелу за то, что те якобы продолжали заниматься антисоветской деятельностью в местах заключения.
По замыслу палачей, память об этих людях должна была быть вытравлена из народного сознания, сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда.
Урочище Сандармох – место расстрела заключенных Соловецкого лагеря, Белбалтлага и жителей Карелии в 1937-1938 годах. Это одно из самых больших захоронений жертв массовых репрессий в СССР. Здесь покоятся более девяти тысяч жертв сталинского террора.
Обреченных на смерть ставили на колени и стреляли в лоб, а не в затылок, чтоб те не прыгнули в яму, пытаясь спастись. В Сандармохе можно увидеть памятники представителям разных национальностей: русским, евреям, полякам, немцам и другим представителям более полусотни национальностей.
Нередко приходили разнарядки из Центра, что нужно очистить лагеря от враждебного антисоветского элемента. Чтобы выполнить план, сотрудники НКВД отбирали уже наказанных людей и приговаривали их к расстрелу за то, что те якобы продолжали заниматься антисоветской деятельностью в местах заключения.
По замыслу палачей, память об этих людях должна была быть вытравлена из народного сознания, сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда.
На стволах деревьев прибиты таблички с именами погибших и их фотографии, повсюду лежат искусственные цветы. Грустно и жутко. Погода портится, начинается дождь. Мы осмотрели деревянную часовенку, напоследок окинули взглядом каменные памятники, темнеющие от капель дождя, и направились к машине – пора было возвращаться в Медвежьегорск.
Матросы,
хаски-столица России
хаски-столица России
Последний день в Карелии. Нет, даже не день, а половина дня. К четырем часам мы должны быть в аэропорту, чтобы вернуться к московским пенатам. Завтракаем в кафе и идем на автовокзал. Берем билет до Мастросов –крошечного поселка, который носит негласное звание хаски-столицы России. Его название никак не связано с профессией; по одной из версий, раньше здесь жила крестьянская семья с такой фамилией.
Матросы известны далеко за пределами Карелии, ведь отсюда отправляются в опасные экспедиции самые выносливые ездовые собаки. Все благодаря неутомимому путешественнику и спортсмену Виктору Симонову, организатору многочисленных поездок в Арктику, Сибирь и Забайкалье. К слову, на Северном полюсе Симонов побывал аж 15 раз.
Еще в 2006 году путешественник купил дом в Матросах и создал питомник ездовых собак северных пород. Там живет порядка 60 псов. Это хаски, самоеды, маламуты, чукотские и таймырские ездовые. Сегодня это большой комплекс «Скифы-тур», где можно остановиться в гостевом доме, пообщаться с собаками, покататься на лошадях, справиться на байдарке по реке Шуя.
Матросы известны далеко за пределами Карелии, ведь отсюда отправляются в опасные экспедиции самые выносливые ездовые собаки. Все благодаря неутомимому путешественнику и спортсмену Виктору Симонову, организатору многочисленных поездок в Арктику, Сибирь и Забайкалье. К слову, на Северном полюсе Симонов побывал аж 15 раз.
Еще в 2006 году путешественник купил дом в Матросах и создал питомник ездовых собак северных пород. Там живет порядка 60 псов. Это хаски, самоеды, маламуты, чукотские и таймырские ездовые. Сегодня это большой комплекс «Скифы-тур», где можно остановиться в гостевом доме, пообщаться с собаками, покататься на лошадях, справиться на байдарке по реке Шуя.
Что
нужно знать о хаски?
Чтобы узнать больше, свяжитесь с владельцами питомника.










нужно знать о хаски?
Что
Эти собаки обожают холод. Неудивительно: по моим субъективным ощущениям, шерсть у них теплее моей зимней шубы. Еще у хаски отлично работает теплообмен. Когда собака лежит на снегу и не растапливает его теплом своего тела, это является признаком качества. Иначе хаски просто вмерзнет в лед от сначала растаявшего, а потом замерзшего снега.
У стаи есть вожак, причем не один. В упряжке бегут, как правило, два-три вожака. Интересно, но на роль вожака претендуют и суки. Они более выносливые и более агрессивные (вообще хаски сложно назвать агрессивными). Если дерутся, то до победного конца. Кобели быстро сдаются и разнимать их, со слов экскурсовода, не так сложно.
Синий цвет глаз хаски не является их отличительной чертой. Более того, это может быть признаком проблем у собаки.
Хаски не должны быть агрессивными. Только показал зубы – получил пулю между глаз. То же касается и неправильного прикуса.
Эти собаки обожают бегать в упряжке, с нетерпением ждут, когда их выберут для такой миссии. В одной упряжке бежит 8-12 собак в зависимости от перевозимого веса.
Чтобы погладить хаски, нужно поднести ему руку на обнюхивание. Потом можно делать что угодно (шутка). Если собака прячется в будку (а в питомнике были и такие стеснительные натуры, которые то бежали жалеться, то скрывались в домике), трогать ее не нужно.
По щенку понятно, может ли он быть вожаком. Будущих лидеров стаи старательно обучают и потом никому не продают.
Чтоб научить молодых собак бегать в упряжке, им просто устраивают практику с опытными хаски.
8 интересных фактов

Когда мы тряслись в допотомном «Пазике», то не знали, что в Матросах есть несколько мест, где можно посмотреть на красавцев-хаски.
Мы вышли на остановке после указателя «Карьяла Парк», но пожилой кондуктор постучал в окошко, жестом приглашая вернуться в автобус: «Деточки, питомник собак дальше. Я скажу, где выходить».
Накануне вечером Леша звонил именно в «Карьяла Парк», чтобы договориться на экскурсию по питомнику. Нас ждали к 12. Но судьба распорядилась несколько иначе, предложив куда более интересный вариант.
Мы вышли на остановке после указателя «Карьяла Парк», но пожилой кондуктор постучал в окошко, жестом приглашая вернуться в автобус: «Деточки, питомник собак дальше. Я скажу, где выходить».
Накануне вечером Леша звонил именно в «Карьяла Парк», чтобы договориться на экскурсию по питомнику. Нас ждали к 12. Но судьба распорядилась несколько иначе, предложив куда более интересный вариант.
Интересный потому, что там, куда мы изначально собиралась, экскурсии ограничены по времени, собак не так много и к ним нельзя зайти в вольер. Это не те животные, которые ходят в экспедиции. Чисто коммерция ради коммерции.
«Пазик» со скрипом притормозил возле вывески «Скифы-тур». Я вышла из автобуса и первым делом увидела двухметрового хаски из пенопласта. Только после нескольких фото с гигантским зверем мы заглянули в карты и поняли, что «Карьяла Парк» остался в десятке километров. Там, где мы выходили изначально. Добраться туда без машины было невозможно. Такси из Петрозаводска было непозволительной роскошью.
Мы зашли в большой деревянный дом. Нас встретила молодая девушка, которая немного удивилась неоговоренному визиту. При этом предложила чаю с печеньем, включила фильм о собаках, которые покоряли Арктику. Пообещала экскурсию и попросила подождать четверть часа.
Скажу вам, индивидуальная экскурсия получилась невероятной. Добродушный дядечка показал всех собак питомника, рассказал их истории (похоже, тут живут настоящие герои!) и ответил на все вопросы. Потом нам дали возможность самостоятельно походить по вольеру и погладить всех-всех собак.
Сначала я боялась подходить близко к животным и уж тем более протягивать им руки. Однако после того, как меня заверили в бесконечной доброте этих созданий, я разошлась не на шутку. Хаски требовали внимания, подзывали лаем и усердно били хвостами свои бока, когда получали порцию ласки.
«Пазик» со скрипом притормозил возле вывески «Скифы-тур». Я вышла из автобуса и первым делом увидела двухметрового хаски из пенопласта. Только после нескольких фото с гигантским зверем мы заглянули в карты и поняли, что «Карьяла Парк» остался в десятке километров. Там, где мы выходили изначально. Добраться туда без машины было невозможно. Такси из Петрозаводска было непозволительной роскошью.
Мы зашли в большой деревянный дом. Нас встретила молодая девушка, которая немного удивилась неоговоренному визиту. При этом предложила чаю с печеньем, включила фильм о собаках, которые покоряли Арктику. Пообещала экскурсию и попросила подождать четверть часа.
Скажу вам, индивидуальная экскурсия получилась невероятной. Добродушный дядечка показал всех собак питомника, рассказал их истории (похоже, тут живут настоящие герои!) и ответил на все вопросы. Потом нам дали возможность самостоятельно походить по вольеру и погладить всех-всех собак.
Сначала я боялась подходить близко к животным и уж тем более протягивать им руки. Однако после того, как меня заверили в бесконечной доброте этих созданий, я разошлась не на шутку. Хаски требовали внимания, подзывали лаем и усердно били хвостами свои бока, когда получали порцию ласки.
Особый восторг во мне вызвал гигантский пес, похожий на волка. Благодаря своему сходству с диким собратом он снимался в фильме «Первые». По сценарию животное должно было нападать на героя фильма, но все заканчивалось облизыванием актера. Сколько ни снимали, получали один результат. В итоге махнули рукой и решили реализовать изначальную задумку с помощью спецэффектов.
В питомнике мы провели больше трех часов и, вероятно, оставались там куда дольше, если бы не самолет. Такси приехало к нужному времени и мы помчались в аэропорт. Я покинула Карелию, но Карелия навсегда осталась со мной – в моем сердце.
В питомнике мы провели больше трех часов и, вероятно, оставались там куда дольше, если бы не самолет. Такси приехало к нужному времени и мы помчались в аэропорт. Я покинула Карелию, но Карелия навсегда осталась со мной – в моем сердце.
 |  |  |
Красоты России вызывают восторг даже у наиболее опытных и взыскательных путешественников. В путешествиях по России есть особый шарм. Колорит страны неповторим.
Карелия была моей давней мечтой, и это путешествие полностью оправдало надежды. Конечно, проблемы с транспортом, плохая инфраструктура, плохо налаженный туристический бизнес – все это оставляет некоторый осадок, но не перекрывает общего положительного впечатления от великолепия как рукотворных, так и природных достопримечательностей карельского края.
Спасибо, что читали эту мультимедийную статью. Если она вам понравилась и была полезной, не забудьте поделиться ссылкой с друзьями. Также подписывайтесь на социальные сети проекта, чтобы не пропускать обновления. Не переключайтесь, мне есть чем вас удивить ❤️
Карелия была моей давней мечтой, и это путешествие полностью оправдало надежды. Конечно, проблемы с транспортом, плохая инфраструктура, плохо налаженный туристический бизнес – все это оставляет некоторый осадок, но не перекрывает общего положительного впечатления от великолепия как рукотворных, так и природных достопримечательностей карельского края.
Спасибо, что читали эту мультимедийную статью. Если она вам понравилась и была полезной, не забудьте поделиться ссылкой с друзьями. Также подписывайтесь на социальные сети проекта, чтобы не пропускать обновления. Не переключайтесь, мне есть чем вас удивить ❤️
© Notscribbler. Все права защищены. Использование материалов без согласия автора запрещено.















